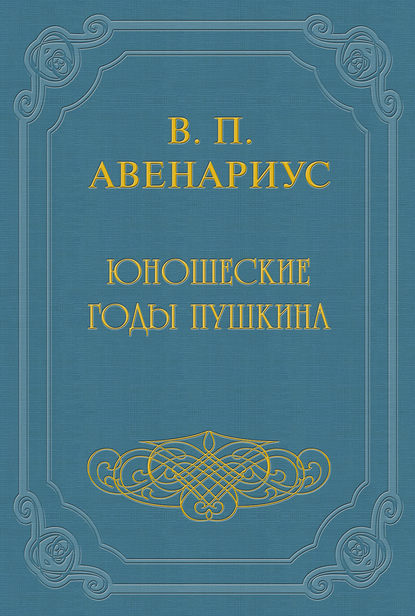По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поневоле станешь хоть лицедеем, когда ты с Кюхельбекером выбили у меня из рук мое парнасское оружие – гусиное перо. Лучше быть первым в селе, чем последним в городе.
– О! Если вы такой первостатейный актер, то я непременно буду, – любезно сказал Жуковский и совсем повеселевшим взором оглядел столпившуюся около него молодежь. – Приятно на вас глядеть, друзья мои! Приехал я сюда со слабой надеждой отдохнуть у вас душою – и не ошибся в расчете: всю навеянную на меня «беседчиками» пыль с души как ветром сдуло.
– А кстати, Василий Андреич, какую это сатиру, говорил ты давеча, сочинил друг твой Блудов на «беседчиков»? – спросил Пушкин.
– Полное название ее: «Видение в некоторой ограде, изданное обществом ученых людей». «Ограда», понятно, означает «Беседу». Один список с сатиры нарочно послан к герою ее – князю Шаховскому, при письме будто бы от имени нескольких арзамасских литераторов.
– Арзамасских?
– Да. Блудов – помещик Арзамасского уезда, недавно побывал на родине и для рассказа своего воспользовался одним анекдотом, который случился на месте. Только героем он сделал Шаховского и скромный номер арзамасского трактира обратил в великолепный зал «Беседы».
– Но в чем же соль сатиры? Расскажите, Василий Андреич! – пристали к Жуковскому лицеисты.
– В письме, к которому была приложена эта сатира, объяснено, что несколько арзамасских литераторов собрались раз в местном трактире, – начал Жуковский. – Вдруг вошедший половой докладывает им, что рядом в номере остановился какой-то проезжий – должно полагать, ясновидящий: бредит с открытыми глазами. Заинтригованные литераторы подкрались к дверям таинственного соседа и заглянули в щелку. Что же они увидели там? По номеру взад и вперед шагал, размахивая руками, безобразный толстяк и нараспев декламировал какие-то бессмысленные, напыщенные фразы…
– А ведь Шаховской, говорят, очень толст? – прервал рассказчика Илличевский.
– Настолько же толст, насколько Шишков тощ: оба дополняют друг друга. Итак, – продолжал Жуковский, – он декламировал без передышки, а окончив свою речь, начинал ее опять сызнова. Таким образом, подслушивавшие арзамасцы имели возможность записать все «видение» от слова до слова. Имен своих они, однако, по скромности не выставили, ибо скромность – отличительная черта арзамасцев.
– А содержание «видения»? – спросил один из слушателей.
– Дословно, к сожалению, я не сумею передать вам его. Вкратце же оно такое: в магнетическом сне своем Шаховской повествует, как он однажды, после заседания «Беседы» в Державинском зале, по рассеянности забыл выйти с другими. Свечи задули, дверь замкнули на два замка, и очутился он вдруг один-одинешенек в опустевшем и темном зале. Ветер за окнами заунывно выл, и думы, одна другой мрачнее, нахлынули на злополучного драматурга. Прислонясь к оконнице буйной головой, он стал громко каяться в собственных своих прегрешениях… Жаль, право, что я не захватил с собой этой образцовой исповеди! Когда-нибудь доставлю ее вам.
– Да вот 24 числа, когда будет у нас спектакль, – сказал Илличевский.
– Непременно, если не забуду.
Описывать самое празднество лицейской годовщины в 1815 году мы не станем. Приведем только краткий, но характеристичный отчет о нем, сохранившийся в письме Илличевского к Фуссу, другу его по гимназии, где он обучался до лицея:
«26 октября 1815 г. (Царское Село – вечное Царское Село).
Я получил письмо твое в такое время, когда я не имел ни на час свободного времени, ибо оно было посвящено целому обществу, скажу яснее, в такое время, когда мы приготовлялись праздновать день открытия лицея (правильнее бы было: день закрытия нас в лицее), что делается, обыкновенно, всякий год в первое воскресенье после 19 октября, и нынешний год также октября 24 числа. Этот праздник описать тебе недолго: начался театром; мы играли „Стряпчего“ Пателена и „Ссору двух соседей“. Обе пьесы – комедии. В первой представлял я Вильгельма, купца, торгующего сукнами, которого плут-стряпчий подрядился во всю пьесу обманывать; во второй – Вспышкина, записного писаря, охотника и одного из ссорящихся соседей. Не хочу хвастать перед другом, но скажу, что мною зрители остались довольны. За театром последовал маленький бал и потчевание гостей всякими лакомствами, что называется в свете угощением».
Что касается Пушкина, то он исполнял только незначительную роль в первой пьесе.
«Отзвонил – и с колокольни долой»: сорвал с себя парик, смыл с лица следы пудры и угля, придававшие ему требуемый пьесою старческий вид, переоделся в лицейский мундир и как раз к началу антракта поспел в «партер», где со сцены еще заметил Жуковского.
Тот сидел в стороне, прислонясь к колонне, но был уже не один: перед ним торчал великан Кюхельбекер. Наклонясь к сидящему со своей вышины и приложив раковиной руку к одному уху (потому что, как уже сказано, он был несколько глух), Кюхельбекер благоговейно прислушивался к тому, что говорил ему Жуковский. Чело последнего было ясно, взор светел; от прежнего меланхолического настроения, очевидно, не осталось и тени.
– Барометр парнасский, кажется, не показывает уже на дождь? – было первое приветствие Пушкина.
– На дождь-то – нет, но на грозу и бурю, – был веселый ответ.
– Вот как!
– Да, на Парнасе у нас теперь жаркий бой: клочья перьев так и летят, чернила так и брызжут.
– Между вами, карамзинистами, и стариками – шишковистами?
– Да, или, точнее, между «арзамасцами» и «беседчиками». Ведь намедни ты слышал уж от меня о шутке Блудова? Ну, так из тех, что участвовали в шутке, сложился теперь плотный кружок: «Арзамас» – и горе «Беседе»!
– Эх, Пушкин! Ну зачем ты помешал нам? – попрекнул Кюхельбекер. – Василий Андреич только что начал объяснять мне…
– Что немецкие вирши твои бесподобны? – насмешливо досказал Пушкин.
– Они в самом деле очень сносны, – серьезно отозвался Жуковский, – и я уже обещал Вильгельму Карлычу пристроить их в каком-нибудь немецком журнале.
Кюхельбекер весь раскраснелся и скромно потупился.
– Василий Андреич, конечно, чересчур добр… – пробормотал он. – Но мнение его меня очень ободрило… Мне хотелось бы теперь написать немецкую же статью о русской литературе, и я просил Василия Андреича дать мне некоторые указания…
– И представь себе, – подхватил с улыбкой Жуковский, – Вильгельм Карлыч оказывается тайным приверженцем «старого» слога…
– Ну как тебе не стыдно, Кюхля! – воскликнул Пушкин.
– Нет, у него есть свои резоны, – примирительно вступился Жуковский. – Глава старой партии, Шишков, не номинально только президент Российской академии: он и муж глубокоученый, государственный, да и незаурядный писатель. Но, как у всякого смертного, у него есть свой конек, свой предмет помешательства. Это – славянщина. Целые годы изучая всевозможные языки, он в конце концов пришел к какому выводу? Что древнейший в мире язык – славянский и что все прочие языки – только наречия славянского. Раз став на эту точку, он готов всякое иностранное слово хоть за волосы притянуть к славянскому.
– Например? – спросил с некоторым уже задором Кюхельбекер.
– Например… Хоть слово ястреб. Шишков производит его от «яству теребить».
– И преостроумно!
– Не спорю. Но едва ли верно, потому что латинское Astur разве не тот же ястреб, только позаимствованный нами у древних римлян?
– Ну, это еще вопрос!
– Даже вопроса не может быть, – усмехнулся Пушкин. – Очевидно, римляне исковеркали наше славянское слово!
– Нет, и славяне, и римляне, может быть, взяли его из древнего санскритского…
– Вот это, пожалуй, всего вернее, – согласился Жуковский. – Но тут вы, Вильгельм Карлыч, уж отступили несколько от Шишкова. А мало ли у нас совсем иностранных слов? Не имея никакой возможности приурочить их к славянщине, шишковисты изгоняют их вовсе из родной речи и заменяют словами собственного изобретения. Так: проза у них – говор, номер – число, швейцар – вестник, калоши – мокроступы, бильярд – шарокат, кий – шаропих.
– Да чем же эти новые слова хуже иностранных? – возразил Кюхельбекер.
– Особенно шаропих! – рассмеялся Пушкин. – Прелестно!
– Да и между «беседчиками» начинается уже раскол, – продолжал Жуковский. – Державин не соглашается на предложение Шишкова – соединить «Беседу» с академией; Крылов прямо осмеял своих друзей-«беседчиков» в басне «Квартет»:
А вы, друзья, как ни садитесь, —
Все в музыканты не годитесь…
Но мы, «арзамасцы», решились теперь окончательно доконать их. В позапрошлый четверг, 14 октября, по приглашению Уварова, мы собрались у него на первый «арзамасский вечер». В прошлый четверг – на второй у Блудова[26 - Оба впоследствии графы и министры.]. Председателем нашим всего ближе было бы выбрать самого создателя нового слога, Карамзина. Но он живет в Москве и мог бы участвовать в собраниях наших только наездом (а мы думаем собираться каждый четверг). Главное же, что он – олимпиец, и не в его характере вздорить с кем бы то ни было. Но мы, его ученики, не добравшиеся еще до вершин Олимпа, постоим и за него, и за себя. Новорожденный «Арзамас» – пародия дряхлой «Беседы», и насколько заседания «Беседы» напыщенно-важны и непроходимо-скучны, настолько же заседания «Арзамаса» задушевно-веселы и непринужденно-шутливы. Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье. Это – наш девиз. Отрешась на время заседаний «Арзамаса» от своего светского звания, каждый из нас принял условную кличку из моих баллад, которые так не пришлись по вкусу «беседчикам». Блудов у нас – Кассандра, Уваров – Старушка, Батюшков – Ахилл, впрочем и Попенька за его птичий нос; Дашков – Чу! Чурка или просто Дашенька; Тургенев – Эолова арфа…
– Это за что же? – спросил Пушкин.
– За вечное бурчанье его ненасытного брюха.
– Не в бровь, а прямо в глаз! А тебя самого как прозвали, Василий Андреич?
– О! Если вы такой первостатейный актер, то я непременно буду, – любезно сказал Жуковский и совсем повеселевшим взором оглядел столпившуюся около него молодежь. – Приятно на вас глядеть, друзья мои! Приехал я сюда со слабой надеждой отдохнуть у вас душою – и не ошибся в расчете: всю навеянную на меня «беседчиками» пыль с души как ветром сдуло.
– А кстати, Василий Андреич, какую это сатиру, говорил ты давеча, сочинил друг твой Блудов на «беседчиков»? – спросил Пушкин.
– Полное название ее: «Видение в некоторой ограде, изданное обществом ученых людей». «Ограда», понятно, означает «Беседу». Один список с сатиры нарочно послан к герою ее – князю Шаховскому, при письме будто бы от имени нескольких арзамасских литераторов.
– Арзамасских?
– Да. Блудов – помещик Арзамасского уезда, недавно побывал на родине и для рассказа своего воспользовался одним анекдотом, который случился на месте. Только героем он сделал Шаховского и скромный номер арзамасского трактира обратил в великолепный зал «Беседы».
– Но в чем же соль сатиры? Расскажите, Василий Андреич! – пристали к Жуковскому лицеисты.
– В письме, к которому была приложена эта сатира, объяснено, что несколько арзамасских литераторов собрались раз в местном трактире, – начал Жуковский. – Вдруг вошедший половой докладывает им, что рядом в номере остановился какой-то проезжий – должно полагать, ясновидящий: бредит с открытыми глазами. Заинтригованные литераторы подкрались к дверям таинственного соседа и заглянули в щелку. Что же они увидели там? По номеру взад и вперед шагал, размахивая руками, безобразный толстяк и нараспев декламировал какие-то бессмысленные, напыщенные фразы…
– А ведь Шаховской, говорят, очень толст? – прервал рассказчика Илличевский.
– Настолько же толст, насколько Шишков тощ: оба дополняют друг друга. Итак, – продолжал Жуковский, – он декламировал без передышки, а окончив свою речь, начинал ее опять сызнова. Таким образом, подслушивавшие арзамасцы имели возможность записать все «видение» от слова до слова. Имен своих они, однако, по скромности не выставили, ибо скромность – отличительная черта арзамасцев.
– А содержание «видения»? – спросил один из слушателей.
– Дословно, к сожалению, я не сумею передать вам его. Вкратце же оно такое: в магнетическом сне своем Шаховской повествует, как он однажды, после заседания «Беседы» в Державинском зале, по рассеянности забыл выйти с другими. Свечи задули, дверь замкнули на два замка, и очутился он вдруг один-одинешенек в опустевшем и темном зале. Ветер за окнами заунывно выл, и думы, одна другой мрачнее, нахлынули на злополучного драматурга. Прислонясь к оконнице буйной головой, он стал громко каяться в собственных своих прегрешениях… Жаль, право, что я не захватил с собой этой образцовой исповеди! Когда-нибудь доставлю ее вам.
– Да вот 24 числа, когда будет у нас спектакль, – сказал Илличевский.
– Непременно, если не забуду.
Описывать самое празднество лицейской годовщины в 1815 году мы не станем. Приведем только краткий, но характеристичный отчет о нем, сохранившийся в письме Илличевского к Фуссу, другу его по гимназии, где он обучался до лицея:
«26 октября 1815 г. (Царское Село – вечное Царское Село).
Я получил письмо твое в такое время, когда я не имел ни на час свободного времени, ибо оно было посвящено целому обществу, скажу яснее, в такое время, когда мы приготовлялись праздновать день открытия лицея (правильнее бы было: день закрытия нас в лицее), что делается, обыкновенно, всякий год в первое воскресенье после 19 октября, и нынешний год также октября 24 числа. Этот праздник описать тебе недолго: начался театром; мы играли „Стряпчего“ Пателена и „Ссору двух соседей“. Обе пьесы – комедии. В первой представлял я Вильгельма, купца, торгующего сукнами, которого плут-стряпчий подрядился во всю пьесу обманывать; во второй – Вспышкина, записного писаря, охотника и одного из ссорящихся соседей. Не хочу хвастать перед другом, но скажу, что мною зрители остались довольны. За театром последовал маленький бал и потчевание гостей всякими лакомствами, что называется в свете угощением».
Что касается Пушкина, то он исполнял только незначительную роль в первой пьесе.
«Отзвонил – и с колокольни долой»: сорвал с себя парик, смыл с лица следы пудры и угля, придававшие ему требуемый пьесою старческий вид, переоделся в лицейский мундир и как раз к началу антракта поспел в «партер», где со сцены еще заметил Жуковского.
Тот сидел в стороне, прислонясь к колонне, но был уже не один: перед ним торчал великан Кюхельбекер. Наклонясь к сидящему со своей вышины и приложив раковиной руку к одному уху (потому что, как уже сказано, он был несколько глух), Кюхельбекер благоговейно прислушивался к тому, что говорил ему Жуковский. Чело последнего было ясно, взор светел; от прежнего меланхолического настроения, очевидно, не осталось и тени.
– Барометр парнасский, кажется, не показывает уже на дождь? – было первое приветствие Пушкина.
– На дождь-то – нет, но на грозу и бурю, – был веселый ответ.
– Вот как!
– Да, на Парнасе у нас теперь жаркий бой: клочья перьев так и летят, чернила так и брызжут.
– Между вами, карамзинистами, и стариками – шишковистами?
– Да, или, точнее, между «арзамасцами» и «беседчиками». Ведь намедни ты слышал уж от меня о шутке Блудова? Ну, так из тех, что участвовали в шутке, сложился теперь плотный кружок: «Арзамас» – и горе «Беседе»!
– Эх, Пушкин! Ну зачем ты помешал нам? – попрекнул Кюхельбекер. – Василий Андреич только что начал объяснять мне…
– Что немецкие вирши твои бесподобны? – насмешливо досказал Пушкин.
– Они в самом деле очень сносны, – серьезно отозвался Жуковский, – и я уже обещал Вильгельму Карлычу пристроить их в каком-нибудь немецком журнале.
Кюхельбекер весь раскраснелся и скромно потупился.
– Василий Андреич, конечно, чересчур добр… – пробормотал он. – Но мнение его меня очень ободрило… Мне хотелось бы теперь написать немецкую же статью о русской литературе, и я просил Василия Андреича дать мне некоторые указания…
– И представь себе, – подхватил с улыбкой Жуковский, – Вильгельм Карлыч оказывается тайным приверженцем «старого» слога…
– Ну как тебе не стыдно, Кюхля! – воскликнул Пушкин.
– Нет, у него есть свои резоны, – примирительно вступился Жуковский. – Глава старой партии, Шишков, не номинально только президент Российской академии: он и муж глубокоученый, государственный, да и незаурядный писатель. Но, как у всякого смертного, у него есть свой конек, свой предмет помешательства. Это – славянщина. Целые годы изучая всевозможные языки, он в конце концов пришел к какому выводу? Что древнейший в мире язык – славянский и что все прочие языки – только наречия славянского. Раз став на эту точку, он готов всякое иностранное слово хоть за волосы притянуть к славянскому.
– Например? – спросил с некоторым уже задором Кюхельбекер.
– Например… Хоть слово ястреб. Шишков производит его от «яству теребить».
– И преостроумно!
– Не спорю. Но едва ли верно, потому что латинское Astur разве не тот же ястреб, только позаимствованный нами у древних римлян?
– Ну, это еще вопрос!
– Даже вопроса не может быть, – усмехнулся Пушкин. – Очевидно, римляне исковеркали наше славянское слово!
– Нет, и славяне, и римляне, может быть, взяли его из древнего санскритского…
– Вот это, пожалуй, всего вернее, – согласился Жуковский. – Но тут вы, Вильгельм Карлыч, уж отступили несколько от Шишкова. А мало ли у нас совсем иностранных слов? Не имея никакой возможности приурочить их к славянщине, шишковисты изгоняют их вовсе из родной речи и заменяют словами собственного изобретения. Так: проза у них – говор, номер – число, швейцар – вестник, калоши – мокроступы, бильярд – шарокат, кий – шаропих.
– Да чем же эти новые слова хуже иностранных? – возразил Кюхельбекер.
– Особенно шаропих! – рассмеялся Пушкин. – Прелестно!
– Да и между «беседчиками» начинается уже раскол, – продолжал Жуковский. – Державин не соглашается на предложение Шишкова – соединить «Беседу» с академией; Крылов прямо осмеял своих друзей-«беседчиков» в басне «Квартет»:
А вы, друзья, как ни садитесь, —
Все в музыканты не годитесь…
Но мы, «арзамасцы», решились теперь окончательно доконать их. В позапрошлый четверг, 14 октября, по приглашению Уварова, мы собрались у него на первый «арзамасский вечер». В прошлый четверг – на второй у Блудова[26 - Оба впоследствии графы и министры.]. Председателем нашим всего ближе было бы выбрать самого создателя нового слога, Карамзина. Но он живет в Москве и мог бы участвовать в собраниях наших только наездом (а мы думаем собираться каждый четверг). Главное же, что он – олимпиец, и не в его характере вздорить с кем бы то ни было. Но мы, его ученики, не добравшиеся еще до вершин Олимпа, постоим и за него, и за себя. Новорожденный «Арзамас» – пародия дряхлой «Беседы», и насколько заседания «Беседы» напыщенно-важны и непроходимо-скучны, настолько же заседания «Арзамаса» задушевно-веселы и непринужденно-шутливы. Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье. Это – наш девиз. Отрешась на время заседаний «Арзамаса» от своего светского звания, каждый из нас принял условную кличку из моих баллад, которые так не пришлись по вкусу «беседчикам». Блудов у нас – Кассандра, Уваров – Старушка, Батюшков – Ахилл, впрочем и Попенька за его птичий нос; Дашков – Чу! Чурка или просто Дашенька; Тургенев – Эолова арфа…
– Это за что же? – спросил Пушкин.
– За вечное бурчанье его ненасытного брюха.
– Не в бровь, а прямо в глаз! А тебя самого как прозвали, Василий Андреич?