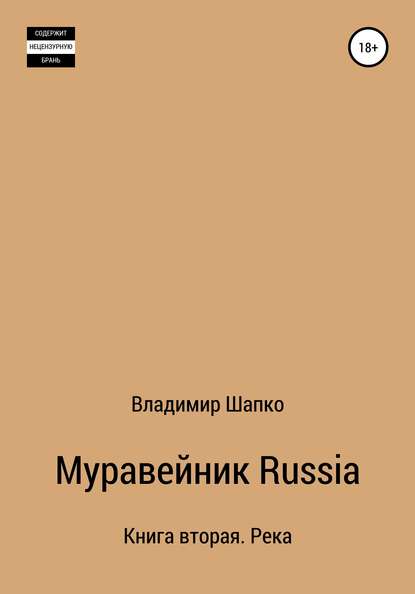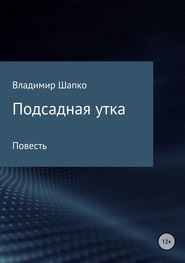По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С болью в сердце, всей душой стремясь снизу к ним, Кропин спросил их:
– Где же ваши кони, Красные Дьяволята? Почему вы не на конях? Где вы их потеряли, Красные Дьяволята?
Люди при общей трубе не ответили. Не обернулись и не посмотрели на Кропина. Кто-то их них тихо скомандовал:
– Внимание… Рысью… марш!
И они разом дёрнули цепочки. Каждый свою.
Труба страшно зашумела, обрушивая всё своё содержимое на Кропина…
Кропин подкинулся в кровати, задыхаясь.
В комнате Левиной на полу испарялась лужа луны. Фотографии висели по стене как слизни… Кропин опрокинулся на подушку.
Ранним утром, со страшным запором, он являл собой крокодила, который сидит на своем хвосте.
– Ы-ы-ы-ы-а-а-а! – пропадал он. – Пррроклятье!..
Кое-как исполнил всё – и вода рухнула в унитаз бурными, долго не смолкающими аплодисментами. Чёрт бы их задрал совсем!..
После утреннего чая, чая формального, быстрого, почти без слов, прощание в коридоре было таким же скомканным и торопливым. Все словно стремились поскорее избавиться друг от друга (не только от Кропина) и разбежаться по комнатам. Надменная Вероника только кивнула и первой ушла. Впрочем, Бонифаций и Елизавета Ивановна провожали Кропина до ворот и на улицу. Весёлый собачонок прыгал, ударялся о чемодан, норовил допрыгнуть до лица. Елизавета Ивановна плакала, просила писать. За воротами Кропин надолго обнял затрясшуюся женщину…
В машине племянники подталкивали его, подмигивали. Как приз за мужское геройство, поставили ему на колени громадную корзину, укутанную белым. Что это ещё такое! Уже на ходу Кропин стремился избавиться от корзины. Племянники не давали. Как гусей, ловили кропинские руки, держали. Машина скрылась за углом. Бонифаций подбежал к забору, сделал акробата, расписался: всё! уехал!
По перрону быстро шёл с племянниками к восьмому вагону. И здесь были цветы! Синие цветы, расстеленные ковром. Как пышная синяя плесень. Ещё клумба. Теперь цветы рыжие. Точно большая, пряная изжога, лезущая из Кропина. И, наконец, как громаднейший вывернутый цветник уже всего города – кучевые облака над составом. Да-а, такое не забудешь. Не-ет. На всю жизнь наелся цветов. Кропин жал руки. Кропин уже лез с чемоданом в вагон. Как бы случайно, корзину – оставил. На перроне. Племянники не дали смухлевать – толкали корзину наверх снизу. Уже на ходу поезда. В купе сидел – как торговец. На коленях – корзина. Ему посоветовали поставить её пока на пол. Сейчас, сказал он и полез с корзиной из купе. Поезд уже вовсю шёл. Мелькали за окнами пакгаузы, козловые краны, взмывали и падали провода. С корзиной на руке Кропин двигался по проходу вагона.
– Дед, что несёшь? Пирожки, газировку? А ну-ка посмотрим!..
– Нет, нет! Нет пирожков! Ничего нет!
В тамбуре подёргал наружную дверь. Уже закрытую. Точно не веря, что её закрыли. Ч-чёрт! Между вагонами, как в наколачивающем грохот гофрированном баяне, смотрел на ёрзающие под ногами железные пластины. Нигде не было ни дыры, ни даже щели. Это ясно. Дальше пошёл. Через следующий вагон.
– Дед, заходи сюда! Чего принёс?
– Ничего нет, ничего! Принесу!
Неожиданно вышел к вагону-ресторану. В тамбур перед ним. Кинулся мимо жара кухни к раскрытой двери с решёткой до пояса…
– Куда?! Назад! – Его ухватили за хвост пиджака.
Отпрянул. Корзина на руке.
– Куда полез?! Выпадешь!
– Хотел посмотреть…
Пошёл от решетки. Пошёл не туда.
– Ресторан закрыт!.. И вообще – ты кто такой? – Плотный повар в грязно-белой куртке придвинулся. С ним придвинулся ещё один. Такой же бело-грязный. С добавлением ножа в руку. Первый уже объяснял второму: – Ты смотри! Со станции! Конкурент! А?
– Нет, нет!.. Я… я частное лицо… Извините…
Мимо подставленных глаз поваров Кропин с корзиной протискивался. Так циркач лезет через ящик с острейшими ножами.
– И-ишь ты, деловой! «Частное лицо»! Мы тебе покажем! – неслось вслед.
В своем вагоне, уже пройдя туалет, увидел, как оттуда вышла девочка с полотенцем. Разом остановился. Девочка прошла мимо. Тогда, оглядываясь, втиснулся с корзиной в туалет. Заперся. С трудом стаскивал, сталкивал раму со стеклом. Совал в открывшееся окно корзину. Корзина, гадина, никак не вылезала наружу. Ручка мешала! Начал остервенело выворачивать, ломать ручку. Оплетённая лозой ручка была вделана на совесть. Вывернул-таки! Вытолкнул, наконец, всё наружу. Корзина ухнула под откос, ударилась несколько раз о землю, закувыркалась и, не теряя ни грамма содержимого, улетела в кусты. С большим облегчением Кропин вымыл руки. Когда вышел – в проходе вагона уже металась женщина. Полная, перепуганная, совалась ко всем:
– Вы видели? вы видели, товарищи! Сейчас выкинули чемодан! Из туалета! Украли, выпотрошили и выкинули!.. Товарищ, вы видели? – Кропина схватили за рукав.
– Нет! – сразу выкрикнул Кропин. – Ничего не видел! Вам показалось!
Протискивался по вагону, ужимался, обходя выскакивающих с длинными шеями пассажиров.
В купе вытирал пот с лица.
– Товарищ, – тронули его за колено, – вы нигде не оставили свою корзину? Не помните? С вами же корзина была? Где она?
На него смотрели улыбающиеся лица.
– Да что вам всем далась она? А? Чужая она, чужая! Отдал, отнёс! Понимаете? А?..
4. Танцы в парке по средам и субботам
В количестве восьми человек на дежурство дружина вышла ровно в половине восьмого. Александр Новосёлов во главе. Танцы ещё не начались, и в парке было пустовато. Уводили малышей домой молодые мамаши. Пенсионеры сворачивали газеты. Поднимались, кряхтели и устанавливались. Как паромы для отплытия. Изредка попадались свои. Лимитчики. С тоскующими, какими-то испуганно промежуточными глазами.
Не торопясь дружинники шли. Вдоль аллеи, словно шершавые ноги слонов, стояли старые тополя. В двух местах вылезли из земли мордастые дубы. Возле одного из них, на детской опустевшей площадке, какой-то гражданин в майке и домашних тапочках стискивал руки, ставил себя в натужно-дикие позы. Гражданин был пьян в той степени, когда о прежней своей жизни совершенно не помнят. Он только культурист был сейчас. То в одну сторону натужится-пригнётся, то уже в другую присел. Девчонки его боязливо обегали. Он про девчонок не помнил. Дружинники подошли. Окружив, смотрели. Гражданин, всё так же тужась, приседал, зверски оскаливался. Мучимые жиловые руки его были сродни сервелату. Ы-ыык! – помогал он себе голосом. Ы-ыыык! Ы-ыыык! Полностью ожелезнённого, его подвели к скамейке. Усадили. Уходя, дружинники посмеивались. Культурист застыл. Раскрытый рот его напоминал карьер. Со скальными породами.
Из боковой аллеи вышел навстречу воинский патруль. Офицерик впереди. Молодцеватый, как щелчок. Два солдата рядом с ним – просто везущиеся увальни. Не знающие куда деть свой рост, свои руки. (Вопрос: почему кто командует – всегда маленького роста, а кто подчиняется – горбыли, увальни?) Проходя, офицерик дружину не видел в упор. А солдаты все так же едва за ним поспевали.
Кто-то высказал предположение, что – Дембелей Секут. Сегодня же День пограничника. Ну, дембелей им уже вылавливать незачем, возразил Новосёлов. Не их они уже. Да и сходка была наверняка в парке Горького. Куда они и не сунутся никогда. А вот своих, салаг каких-нибудь, загребут, надо думать, сегодня немало.
Школа Настоящего Мужчины пройдена совсем недавно, поэтому все уважительно ухмылялись, почесывали в затылках, вспоминали. Да. Армия. Она – того. Не больно там. Это самое. Да. Это точно. Пошли армейские байки, легенды. Кто-то вспомнил, как надул Старшину Товстуху (парни, парни, ха-ха-ха!). Другой – как из самоволки возвратился вдребезину, и – ничего, братва, пронесло! Кто ещё что-то плёл. Вспоминали о дембельских сходках. О сходках в День танкиста, в День воздушно-десантных войск. О повальных пьянках там, о драках со штатскими, с милицией…
В первые годы после службы Новосёлов тоже таскался на такие сборища. И у себя, в Бирске, и здесь, в Москве, один раз побывал. Однако сейчас, идя со всеми, восторженными, неумолкающими, не хотелось даже вспоминать об этом. На фоне всех этих пьяных сборищ ослов в фуражках, всего этого позора и безобразия в масштабах городов… его всегда печалили совсем другие встречи – встречи ветеранов. Неприкаянные встречи участников войны. В Москве – неподалёку от могилы Неизвестного солдата. В День Победы. Больно было смотреть на рядовых. В солдатском которые пришли. Или в матросках и бескозырках. Какие-то неправдашние они были здесь. Седые все, со старыми, в морщинах, лицами. С железными посвистывающими коронками. На всех было слишком опрятное всё. Не с фронта. Сшитое гораздо позже. Какое-то маскарадное… И вот стоят кто где. Точно состарившиеся грустные плясуны. Как обрядили их сейчас. Шуточно, зло… Генералы да полковники – будто родились в своей форме. Похаживали, разговаривали громко, похохатывали, похлопывали снисходительно плясунов. А те, походило, так и остались рядовыми в своей жизни. Печалило это всё. Обидно было за стариков… Новосёлов вздыхал, старался отвлечься от наплывшего. Тем более что офицерик и солдаты давно с аллеи исчезли. Да и разошедшиеся «дембеля» по одному умолкали.
Мимо, к закатному солнцу, тянула сорока. Исподними белыми перьями помахивала как двумя веерами. Конец мая, а всё почему-то не улетела из города. Усевшись на ветку – стрекотала. (Дружинники задирали головы, прищуривались. Все, можно сказать, деревенские. Соскучились.) Как обгорелое полено, мотался хвост. Сорока склюнула последний луч – и осталась в печёном закате как таракан в хлебе. Сразу же застучал ударник на танцплощадке. Замяукали гитары, настраиваясь. И вдарили дружно так, что над деревьями луна разом поднялась. Как таз. Большой, удивлённой.
Дружинники, внутренне подобравшись, пошли… в другую сторону от танцплощадки. Рано ещё. Пусть там всё разгорится…
Когда, сделав круг, снова вышли к центру – танцплощадка бушевала. Полная до краёв. С тонкошеими шляпными фонарями по загородке – напоминала лагерь. Зону. Этакую высвеченную зонку счастья в тёмном парке. Где идёт повальное братание заключённых с охранниками, мужчин с женщинами и в которую рвутся все кому не лень, рвутся сами, добровольно. То тут, то там парни взбегали на забор с проворностью пожарников. Билетерши взывали о помощи. Дружинники нервно посмеивались: поймай такого гвардейца!..
Снова ушли гулять. В глухом тёмном углу парка пели на деревьях какие-то птицы. Словно создавали кутерьму комет в звёздном небе. Хорошо-то как! И никуда вроде бы не надо больше идти…
Однако пришлось завернуть к танцплощадке и в третий раз. Зонка тарабахала, ревела, ухала. Колебания почвы ощущались значительно сильнее. Прямо за загородкой, с краев мотающегося месива тел стайками стояли девчонки в коротких юбках. Нетерпеливо постукивали ножками, помахивали папиросками. Этакие подмалёванные мальвинки. В обязательном порядке над ними скучно загнулись длинные их подруги. По одной, по две на стайку. Тоже намалёванные. Мальвины натуральные. Кавалеры их выдергивали. Как ракеты.
Из темноты аллеи на освещённое вышел странный дядька. Со стриженной под бокс головенкой, в бобочке, узкоплечий, в чудовищных брюках под самое горло. Прямо из 50-ых своих выпал. Не вымершим динозавриком.