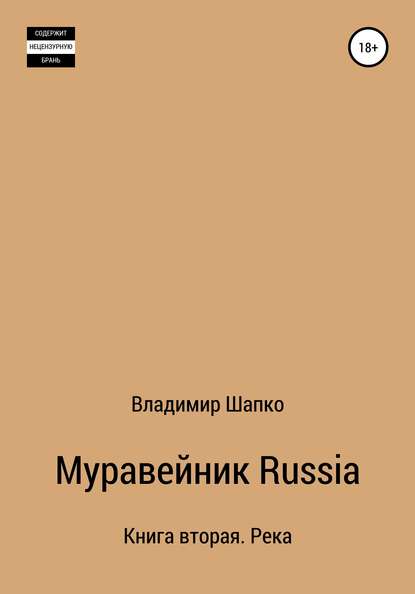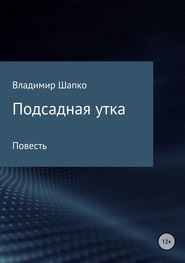По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед иллюминированно взыгрывающей кассой стоял, поматывался, вспоминал Невесту Галю. Или Маню, к примеру… Дружина затаивала дух, не знала что делать: вести ли его куда, оставить ли здесь, чтоб мотался? Не обращая ни на кого внимания, дядька начал запускать в карман брюк руку почти по плечо. Видимо, искал деньги. На него смотрела из кассы старинная, вся в золоте сова. Кинул ей мелочи, чтоб не смотрела. С длинным билетом, толкнув Александра Новосёлова (дружинника), двинулся к турникету. И билетерши, от изумления, его пропустили.
А дядька – руки в бока – уже стоял перед танцующими. Как перед долбящимися деревьями. Затем сунулся в них, локотками поработал и был принят: боксиковая головенка с чубом замоталась вместе со всеми. С облегчением дружина снова пошла подальше куда. Слушать птиц или еще чего там. (Однако – дружина!)
Вышли на улицу. Из боковых дверей кинотеатра напротив начали вываливать наружу зрители. Вытирались платками. Почему-то все хмурые. Достал, видать, фильм до селезёнки. Пугая дома, о двух колесах промчался ревущий шлем. За ним вдогонку второй, такой же трескучий. Затем неслась домой с моржовыми стеклянными усами поливалка. И улица опустела. Потоптавшись, дружина вернулась в парк.
– Кретинва-а-а-а! – рвалось изо рта маленького человечка в чудовищных брюках. Не спуская с него глаз, дружина, как во сне, продвигалась вдоль загородки. Поражённая тем, что человек так сильно может кричать.
– Кретинва-а-а-а-а! – всё не унимался человечек в расшатнувшейся, недоумевающей толпе, стукая себя по колену и зажмуриваясь. Дружинники уже бежали, налетая друг на друга.
– Кретины-ы-ы-ы-ы! – неистовал и бился дядька. Делая ударение на «ы-ы-ы-ы», выдирая его из себя. И уже осаживал, осаживал толпу. Осаживал рукой, приседая: – Стоять! стоять, я сказал! – Так осаживают, дрессируют щенка: – Стоять, кретинки, стоять. – Говорил уже почти ласково: – Вот так, вот так… А теперь слушай сюда!.. Я б вас всех взял, вот так бы намотал… – Тощими руками он показывал, как «наматывает», – вот так… Удавил бы! (Он показывал теперь как «давит», выкатывая глаза на свой сжатый трясущийся кулак)… и выкинул бы вон за загородку к такой-то матери! – Он отряхнул руки, «выкинув»: – Ну как, кретинки? Устраивает? А ну подходи кто смелый!
Как после тихой команды, от толпы ножами проскочили к нему с трех или четырех сторон. Он тут же был сбит с ног. Пинаемый, удивлённый, вскакивал:
– Лежачего – не бьют!
Его снова сбили с ног и начали убивать, с размаху, ногами, под дых, в лицо, в спину. И он опять на удивление всем вскакивал:
– Лежачего… не бьют!
Снова сшибли его с ног и страшно били ногами.
Опал, наконец, на доски, вздёргиваясь на руки, со шнурами крови из носа, промятый в спине – как проткнутый резиновый детский мяч…
– Лежачего… не… бьют… – проталкивались с кровью наружу слова.
Новосёлов Александр пробивался сквозь толпу, расшвыривал. Цапнул удирающего парня. «Ну, ты, лимитный! – Нос парня был как брезгливая пуговица. О двух расширенных ноздрях. – Прочь!» Парень вырвался. Быстро сунул руку в карман брюк. Не раздумывая, Новосёлов саданул по ноздрястой сопатке. Полетел на пол нож, парень опрокинулся. Новосёлов прыгнул, подмял его под себя, выдергивал ремень, чтобы вязать. Бросились Юшкин и Коноплянкин. Оба белые, судорожные, помогали. (Почему фамилии-то у них такие? почему? – нелепо проносилось у Новосёлова.) Остальные излишне суетились сначала: бросались в ноги толпе, искали там нож, будто расчёску, подхватывали его, передавали друг дружке, точно обжигаясь им. Но быстренько раскидались спинами к своим, ополчились, изготовились для драки. Толпа колыхалась, не решаясь ринуться и смять.
Вздёрнули с пола парня, повели. Уводили, утаскивали с собой и дядьку. Чтобы не добили. Голова дядьки моталась, как размозжённый красный пион.
Вдруг начали разгораться вопли, скулёж. С двух-трех голосов
– Су-ки лимит-ные! Су-ки лимит-ные!..
Врубились гитаристы, ударили ритм с ударником во главе. И вот уже вся толпа, приседая, кроя рожи, скандировала:
– Су-ки лимит-ные! Су-ки лимит-ные!..
Новосёлов шёл, стискивал зубы, держа большой нож в руке, как сложенный зонт.
А толпа всё орала и орала, валя за дружиной, накаляя себя, готовая кинуться, растерзать.
Было ясно, что ноги не унести. Когда с танцплощадки все свои вышли, Новосёлов с ножом бросился назад. Ощерился, пугнул. Задвинул турникет:
– Закрывай!
Билетёрша (второй уже не было) накинула замок, закрыла. Побежала, подвывая: ма-ма-а-а! Толпа взревела от такого вероломства, начала выдирать высокий турникет с мясом. Закачалась, затрещала загородка – шпана посыпалась сверху. Скандёж оставшихся заключенных резко усилился, вдохновенно взмыл.
Чувствуя близкую свободу, парень рвался, орал. Его тащили, пинали. Утаскивали и безжизненного дядьку. Новосёлов кулаком отшибал уже налетавших, которых становилось всё больше и больше, которые брали в кольцо, забегали вперёд, отрезая путь, оскаливались ножами, как волки, всё не решаясь по-настоящему напасть. Новосёлов метался с ножом наизготовку. Пугал. Не подпускал к своим. Толкал, чуть не тащил дружину вперёд, к воротам, понимая: если остановятся – конец. В свою очередь, дружина словно не замечала волков. Была словно бы сама по себе. Тащила по-прежнему рвущегося парня, уводила изувеченного дядьку. Как будто углублённо работали все. Засовывались в работу, как страусы в песок. Словно только от этого зависело: жить им или не жить. Коноплянкин, а потом и Юшкин получили палками по горбам. Ничего, работа. Требует она. Да. Новосёлов отбивался. Уже от троих или четверых. Пролётом полоснули ножом по руке. От плеча вниз. Ничего, гады, ничего! Работа! Новосёлов поддел кулаком одного и тут же второго. Ничего! Ещё одного достал. Работа! В разрезанной до локтя белой рубашке точно красный огонь полоскался…
Вдруг орать на танцплощадке перестали. И в аллее все остановились. И преследуемые, и шпана – в парке замелькали, завизжали мигалки. Одна, вторая, третья. Бежали милиционеры, дружинники. И всё перевернулось, всё разом стало наоборот: преследователи рванули кто куда. «А-а! Испуга-ались! – чуть не плакали дружинники. – А-а! Так вам и на-адо!» На бегу шпана выкидывала ножи, кастеты. Лезла на прутья ограды парка. Многие сигали обратно на танцплощадку, чтобы смешаться с танцующими и тоже танцевать. Одного выдернули в трусах. Из-под куста. Но с брюками на руке. Ещё тащили немало к машинам.
Осторожно подсаживали в газик, чтобы везти в больницу, изувеченного дядьку. Парень со связанными руками был брошен к стволу тополя. Точно безрукий, весь скукоженный, качался, гнулся к траве. Пуговичные ноздри его расширялись. «Погоди, сука. Придёт и мой черёд. Из-под земли тебя, гада, достанем. Погоди-и!..» С перетянутой платком рукой устало сидел на пеньке Новосёлов. Молча смотрел на парня, удерживая его нож. Нож парня был выкидной. Так называемая выкидушка. Свисал с руки Новосёлова чуть не до земли.
На другой день Александр Новосёлов проезжал на автобусе мимо парка. Парк был пуст. Дул сильный ветер. По аллеям летала бумага, пыль, вверху, как тряпки, уносило-кидало ворон. Тополя резко клонились-кланялись, как от стыда накидывая на головы серебряные исподы листьев.
5. Единые с летней природой, или Поле для одуванчиков
…Над грядками моркови, как слюда, висели стрекозы. Колька и Сашка напружинивались, ловя момент кинуться. С приготовленными кепками в руках. То одну, то другую – ветер сдувал стрекоз. И снова выносил наверх. Опять как живую слюду в солнце… Сашка и Колька бросались, падали на грядки. Без толку – стрекозы ускользали. Мальчишки лежали в махратой морковной ботве. Как будто в терпком, стойком зелёном опьянении, бьющем прямо в нос. Не решаясь поднять над ним головы.
– Вы опять там! Вы опять! – кричала со двора тётя Каля.
Мальчишки ползли. По канавке. Сбоку грядки. Как ужи. Потом горбиком вставали. Будто что-то ищут на земле. Разглядывают. Жучка ли, гусеницу какую. «Вон Карангуль, Карангуль!» – нарочно кричал Колька, чтобы услышала мать. (Имелся в виду, по-видимому, маленький паучок из семейства тарантулов. Почему-то считавшийся злейшим врагом огородников.) Однако «карангуль» как будто бы убежал, и ребята окончательно распрямлялись. Карангуля вроде как не поймав.
– Я вот дам вам сейчас карангуля! Я вот вас сейчас прутом!
Калерия и Антонина стирали. В двух оцинкованных корытах. Как будто на корытах выступали.
Сашка и Колька крались по противоположной стороне улицы. «Куда?!» – кричала из двора Калерия. Мальчишки застывали. Разоблачённые. «А воды?..» Колька предлагал рвануть. Не догонят. Сашка колебался. Антонина молча дёргалась над корытом. Не глядела на сына. Сашка не выдерживал, шёл. Брал два пустых ведра. Кольке всучивали одно, маленькое. Шли на дальнюю колонку.
Во всех дворах женщины стирали! Как обезумели! Сашка и Колька только подскакивали. От выплёскиваемых помоев. Как от сырых дохлых кошек. Курицы сглупа кидались. Но – разглядывали только дохнущую пену, не решаясь клюнуть… Дуры!
Когда обратно шли, два петуха подпрыгивали-дрались. Как две индейские намахраченные пики в воздухе ударялись. И помоев на них не было! Сашка плеснул воды. Петухи побежали в разные стороны. «Зачем облил! Пусть бы дрались!» – заныл Колька. «Дурило!» – посмотрел на него Сашка. Снова ведра подхватил.
Сходить на колонку пришлось целых три раза. Пока не наполнили чёртов этот бак во дворе. Ну, всё? Мы пошли? Беспечно крутили головами по сторонам, старались не посмотреть на тётю Калю. «А развешивать?..» Кольке сунут был целый таз с бельем. Колька закачался, опупел от таза. «Да ладно, Каля. Пусть идут», – вступилась Антонина. Таз сразу же был брошен. Прямясь, поспешно уходили, точно подпинываемые, подпинываемые сзади. Радостью ли, испугом ли. Торопились по улице. Оглядывались. Всё не верили в своё освобождение. По всей улице женщины по-прежнему вышугивали помои – будто драных кошек своих на дорогу выкидывали.
Поле спряталось за холмом, на спуске к Белой, за Домом ортопедических инвалидок. Нужно было только пройти за Дом, глянуть с горы вниз и – поле… Когда ребята обнаружили его, когда увидели его в первый раз – ахнули. Одуванчики росли сотнями, тысячами. Они словно встали перед Сашкой и Колькой. Как не здешние. Как тонконогие инопланетяне. Как будто только что прилетели откуда-то на землю и ничего не знали ещё на ней… Колька кинулся с палкой: ур-ра-а-а! Залетел в самую середину. Начал выбивать пух. Точно выдёргивать палкой. «К-куда залез?!» Сашка пробрался, вырвал палку, дал по затылку: «Чего, чего делаешь!» Обратно выводил Кольку за руку. Тот тоже задирал ноги, чтобы не помять. «А чего-о! – ныл. – Нельзя, что ли?» – «Нельзя. Понял?»
Сашка присел, протянул руки к одному одуванчику. С краю который был. Осторожно обнимая его ладонями. Одуванчик в самом деле был как инопланетянин. С любознательным глазком в середине ловкого, лёгкого нитяного шара со звездочками. Шара тёплого. Живого. «Нельзя трогать…»
…Как и в первый раз пришедшие ребята опять стояли на краю поляны. Опять смотрели бесконечно долго. А одуванчики поколыхивались на ветерке – как доверчивые глазки-пухлики…
– Не говори никому, – сказал Сашка. – Пусть стоят… Нетронутые…
– Ладно, – сказал Колька. – Никому не скажу.
По бурьяну ребята круто взбирались наверх, к Дому инвалидиц. «Ортопедических», как их называли в городке. Потому что все они были больны ногами. Старались выйти от обделавшейся в овраг уборной подальше. Слепой плешкой монашка летало вверху обеденное солнце.
Чтобы увидеть ортопедических мужчин, вползали на карачках в подвальные окна. Как в русские печи. Осторожно раскрывали створки окна. Ортопедические – все в фартуках – колыхались над верстаками как длиннорукие весёлые растения. Всё отовсюду могли достать: рваные башмаки, подмётковую кожу, колодки со стеллажей. Слышался дружный смех. Кто-то один рассказывал. Колька пролезал дальше. Ух ты! – ещё чего-то видел там, невидимое Сашке. Однако еле успевал отскочить. Пропустить в полёт колодку. И дружный хохот из окошка.
Сашка подбирал с земли колодку. Долго разглядывали. Нагая колодка походила на костяную ногу. Но – как бы без ноги… Обратно колодку бросали быстро. Как в колодец. И опять отскакивали. Точно боялись, что рукастые из окошка схватят их и утащат в подвал. Весёлые хохотали.
В трёх больших окнах над ними, как в пароход спрятав руки, всегда сидели три человека по грудь. Вроде портретов. И пароход их как будто не плыл никуда. Большими глазами три человека смаргивали очень медленно и редко. Реже, чем совы. Это были начальники. Ребята их не боялись… Хоть подпрыгивай, хоть шуми, хоть что – не шелохнутся.
Как работают инвалидки, в честь которых называли Дом, увидеть было нельзя – стекло окон в пристрое, где находился швейный цех, было закрытым, матовым. Можно было только услышать из форточек горячую стрекотню машинок, пахнущую машинным маслом и детской байкой. Сашка и Колька постояли, послушали. Так выслушивали бы, наверное, люди возле тюрьмы: не прилетит ли ещё какое слово сверху?..
Ребята пошли, наконец, дальше. И сразу увидели инвалидку. Живую. С трущимися друг о дружку, точно связанными ногами. Инвалидка переваливалась им навстречу. Колька втихаря стал подталкивать Сашку, захихикал. Так и уходила она к цеху своему, сцепленно переваливаясь. А Колька все не унимался, тыкал пальцем: «Как буква! Как Хэ-э! Как заглавная!» – «Чего смеешься-то? Дурило!» Сашка мазнул ему. Хмурился. Как Константин Иванович. Отец. Не досмотрел. Упустил малого.
Время вокруг было большое. Всё наполненное солнцем. Его можно было замедлять. Его можно было убыстрять. Ребята шли. Сирень над заборами походила на деревенские рубахи. Тяжёлые хохлатые свиристели влеплялись в них, раскачивались как колокольцы. Головами вниз… «Эх, рогатки нету!..» – спотыкался, пялился Колька. Сашка покосился на него. Ничего не сказал.