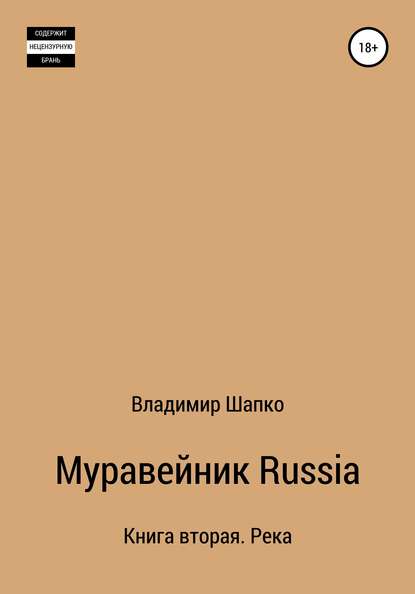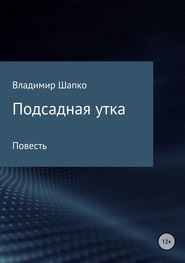По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во дворе почты ребята увидели курицу. И удивило их не то, что она оказалась здесь, а то – что была одна. То есть одна совсем. Без своих соплеменниц. Она была как будто из не пойманных Мыловым. Известным куроцапом. Не уворованная им. Она вышагивала с какими-то замираниями. Шагнёт и станет. Снова шаг, и лапу подожмёт…
– А курица когда идёт – сердце у неё шатается? – спросил Колька.
– Наверно, – ответил Сашка.
– А останавливается – тоже останавливается? Сердце?
Сашка смотрел на замершую курицу. Курица походила на бесколёсный велосипед… Честно признался – не знает.
А тут вообще увидели! Две большие чёрные овцы ходили вдоль забора и щипали траву. Но разом остановились. Тоже уставились на ребят. Как две большие швейные машины… Боязливо Сашка и Колька пошли было, но овцы шарахнулись, разметнулись в разные стороны. Перегородили дорогу. Смотрели на ребят. Глаза их были жёлты. Налиты. Как серьги… Сашка и Колька осторожно двинулись назад. Опять мимо курицы. Там швейные, здесь – бесколёсный велосипед! – Отшугнутая, курица порхнула в сторону.
В своем дворе Сашка, поглядывая на крышу дома, начинал гули-гулилюкать и вытаскивал из кармана заготовленную горсть семечек. В слуховом окне чердака сразу появлялась пара голубей. Сашка бросал семечки на землю. Падая, как фанера, голуби слетали. Начинали бегать, жадно склёвывать. Сашка подсыпал. Голубка была дикой породы, сизая. А голубь, видимо, – бывший домашний. Потому что цвета пёстрого и с горбатым гордым клювом. И крылья дёргались за ним, как за гусаром сабли. Оголодал гусар. Сашкин запас склёвывали быстро. Всё, говорил им Сашка, больше нету. Голуби ещё какое-то время поглядывали на Сашку: может быть, ещё найдётся? Нету. Тогда голубь начинал ходить вокруг голубки как помешанный. Круто втыкая хвост в пыль, – и протаскиваясь. Раздуваемый мокрый зоб его был набит трескучими камешками. Он в это время, верно, был очень опасен. И голубка приседала…
– Топчет, – говорил Сашка.
– Зачем? – спрашивал Колька.
– Яйца заставляет чтоб снесла… А потом пискуны появятся… Надо заставлять их, чтобы неслись… потому и топчет…
А голубь будто не мог зацепиться, трепеща крылышками, будто сваливался с голубки – и отпадал. Как будто он ни при чём. И срывал вверх, с паузами, очень весомо хлопая крыльями. И планируя толсто. Как дельфин.
– Вот. Он теперь доволен. Заставил… – говорил Сашка.
Потом сами поели у Сашки на втором этаже. Как сказала им Антонина – разогревали кашу. Гречневую. Брикетная каша за тридцать копеек в большой сковороде шумела полчищем. Сашка добавлял маргарину. Поджаривали долго. Колька любил «чтоб отскакивало». То есть чтоб «когда уже блохи».
После обеда опять продвигались по городу, наматывали ножонками, как самодвижущиеся часы. Самодостаточные. Которые могли на сколько угодно замедлиться, как угодно побежать.
Со страшными хлопками где-то вверху за деревьями пролетел вертолёт. Вертолет геологоразведки! Ребята рванули на площадь, чтобы увидеть. Но вертолёт уже низился с горы к Белой, как будто орёл тащил над горой корову, свалил с нею за гору, пошёл, видимо, там, над Белой… Жалко, конечно. Мало увидели…
Собор был таким высоким, что всегда падал с неба… Лучше не смотреть. Сашка и Колька отступали от стен. Крутили головами. Чтобы всё там на место встало. Из раскрывшейся высокой двери вышли человек десять кинозрителей. Расходились быстро. Не глядя друг на дружку. Точно в кинозале переругались. Фильм назывался «Кошмар в Клошмерле». Билетерша ждала у двери. Пока из зала выйдет духота. Хмуро покашивалась на Сашку и Кольку. Высокими двумя створками двери увела с собой высунувшуюся темноту. У Сашки и Кольки денег на «Кошмар в Клошмерле» не было.
Возле угла собора, кипя чириканьем, в густоте куста протрёпывались воробьи. Как будто мыши в листьях ползали… Колька кинулся, саданул туда камнем – куст словно вздёрнуло с земли ударившей вверх серой тучей. «Зачем? Дурило?» – посмотрел на Кольку Сашка. Опять как отец. Как Константин Иванович. «А чего они… ползают?» – «Где ползают? Дурило?»
В сквере кругом висели шерстобитные тополя. Под ногами похрустывало пушистое белое одеяло… Колька втихаря поджигал. «Зачем? Дурило?» – кидался опять Сашка, скорей затаптывал бегающие красные змейки. «А чего-о?» – тянул Колька: кидать нельзя-а, поджигать нельзя-а. «Для чего?! Зачем?!» – убийственные как бы ставил вопросы Константин Иванович. А если вдобавок Меркидома увидит – выскочит. Со своими пожарниками. «Да не увидит. Спят они все там…» Ребята смотрели в сторону пожарки.
А на деревянной каланче, наверное, последние метры перед сменой, как пойманный, ходил боец. Уже как ненормальный. Уже никуда не смотрел. Ни на какие пожары. Только ходил. Вокруг вышки. Выйдет из-за угла и уйдёт за другой угол. Выйдет – и снова ушёл. Мимо него пролетали только вороны. Снизу со двора, как из утробы, бодрил его Меркидома. Раз-два! раз-два! Вот, отмечал Сашка, не спят. Ещё как вылетят. На всех машинах. Опять шёл по скверу, по-хозяйски оглядывая его. Чистый Константин Иванович. Колька хмурился, спотыкался.
Когда уже возвращались домой вечером – Сашка увидел на автостанции отца. Константин Иванович выпячивался из автобуса с огромной картонной коробкой в руках. Телевизор! – догадались ребята и в следующий миг уже бежали… Константин Иванович, вытираясь платком, смотрел на поставленный на скамейку телевизор: может быть, на коляске, на Сашкиной, попробовать везти этого… дурилу. Не дослушав, Сашка и Колька полетели к дому как вихри.
По шоссейке, в Сашкиной здоровенной детской колеснице коробка с телевизором тряслась и колотилась, как когда-то сам Сашка. Константин Иванович забегал с разных сторон, пытался унимать, удерживать, говорил, чтоб легче, легче, но железная колымага, казалось, сама подпрыгивала, без всякого даже участия Сашки и Кольки. Разбуженная после многих лет спячки, неостановимая, как лихорадка. И Кольке с Сашкой приходилось только цепляться сзади за её ручку и колотиться вместе с нею. И невозможно было унять! Но – довезли.
Телевизор этот больше смахивал на фотоаппарат на пенсии. Старинный. Из тех, что в ателье бывают. Уже без треноги. Отобрали. Который точно вяло вспоминал, что он там внутри себя натворил, понаснимал за всю свою жизнь.
К пришедшей поздно вечером Антонине повернулось с десяток счастливых детских мордашек, как блины омасленных сизым светом, с готовностью образуя ей в полутьме комнаты просвеченный коридор счастья, в который она должна посмотреть на далекое крохотное светящееся оконце в тёмном углу, где что-то промелькивало, сдёргивалось и сплывало… Антонина так и села на табуретку.
Подошёл Константин Иванович. Деликатно потирая руки, посмеиваясь, начал было объяснять, что, почему, где и как, но Антонина помимо воли уже отстраняла его рукой, тем более что на экранчике мелькнуло что-то знакомое. Знакомое лицо. Точно! Он! Герман Стрижёв! Сосед снизу. Как он туда попал? Участвует в мотогонке. В кроссе. По пересечённой местности. Вот это да! Антонина всплеснула руками. Уже такая же дураковатая, как все. Блаженная. Уже родная всем, своя. Вот это да!
Между тем Стрижёв шагнул к мотоциклу. Это значило, что он уже выслушал всех представителей армии, партии и комсомола, ошивавшихся возле него, которые всё время молча и серьёзно заглядывали в телеобъектив. С бобовыми вытянутыми лицами. Точно в неработающую комнату смеха… Итак, Стрижёв выслушал их. Очень могуче Герман Стрижёв начал надевать краги. Ну, он сейчас покажет всем, как говорится, кузькину мать! Вот Стрижёв! Вот молоточек! – оживились юные зрители и с ними Антонина.
И – началось! И понеслись: по грязи, по ямам, по горкам, то страшной теснотой, прямо-таки клубками, то разодравшись в цепочку, круто заруливая на маршруте, парашютистами выпуливая из-за горок, тут же завязали в грязи, как инвалиды выделывали сапогами, помогая ревущим машинам, и неслись опять, и прыгали, и скакали. Где Стрижёв – понять было невозможно!
И только потом, в самом конце – показали. Без шлема уже, с раздрызганным чубом, всё лицо в брызгах грязи – держит хрустальную чашу, вцепившись в неё обеими руками, и вкось так, как шакал, лыбится. Ну, Стрижёв! Ну, молоточек! Первое место! Первый приз!
Уже на другой день Стрижёв стоял перед Зойкой Красулиной. Стоял с охапками цветов, как всегда натыренных в горкомхозовском питомнике за городом. Как будто соскокнул со вчерашнего экранчика телевизора. Правда, без венка и чаши… Зойка цветов не брала. Зойка смотрела по улице вдаль. В ожидании своего Суженого. Тогда Стрижёв начинал совать их ей. Как грузин на базаре. Зойка спокойно откидывала цветы на стороны. Как будто пряди своих волос. Мешающие смотреть ей вдаль и ждать своего Суженого. Ну что тут! Стрижёв шёл к мотоциклу. На полностью пистолетных, вздрагивающих. Резко осёдлывал мотоцикл. Давал газу – пикой уносился за очередной длинной. Длинной девицей. Ребятишки на сарае горячо всё обсуждали. Зойка стояла, упершись в столб калитки, выставив колено, лузгала себе семечки.
Через полчаса Стрижёв подпукивал на малых оборотах к Зойке. С девицей за спиной. Девица – выше шеста для гонянья голубей! Шеста с тряпками! (Ребятишки сразу на край крыши!) К Зойке будто продвигался цирковой аттракцион – девица верхом на мотоциклисте. На Зойку с разных уровней смотрели по паре глаз. Зойка не обращала внимания на подъезжающих. Зойка по-прежнему стояла, упершись в столб калитки, скрестив руки. Колено было выставлено. Как младой череп…
Со страшным треском уносился назад к закату Стрижёв, разбалтывая девицей на все стороны, вспугивая ею голубей со всех проводов над дорогой. Уносился с горя, конечно же, в дубовую рощу. Куда и канывал с мотоциклом, с девицей, как камень. Бу-уль!
Поздно ночью по двору продвигался, рыкал мотоцикл. Фарой – как расстреливал на крыше сарая вскакивающих и падающих обратно в сон ребятишек. Один Сашка стоял, качался, заслоняясь рукой.
Мотоцикл бурчал в сарае, тряся свой свет. Сашка продолжал стоять на сарае. Как будто на работающем, освещенном снизу аэроплане, готовом побежать, готовом ринуться в ночь… Но мотор глох, свет выключался.
– Чего не спишь, Село? – спрашивал из темноты довольный голос, переплетаясь с журчащей струей.
– Не спится, дядя Гера…
– Сколько тебе лет, Село?
– Десять. А что?
– Та-ак, – тянул Стрижёв, пуская заключительное, последнее. – Мал еще… Ничего не знаешь…
– Чего не знаю, дядя Гера?
Стрижёв не ответил. Шёл к дому, застегивался. Подкидывал себя на пистолетных легко, пружинно, гордо. Как многие мужчины после оправки.
– Спокойной ночи, Село!
– До свидания, дядя Гера!
Сашка ложился. Закидывал руки за голову, смотрел опять вверх. Возвращалось то, что спугнулось мотоциклом Стрижёва.
…Сначала они с Колькой бесцельно мотались по голому двору самой ветеринарной станции. Глядели вдоль невысокого забора с поваленным уже, ржаво-перегоревшим бурьяном. Была осень. Почему-то думалось, что раз ветеринарная – то должно много всяких костей от животных валяться. Как от домашних, так и от диких. (А зачем, собственно? Валяться? Ну, просто так. Ветеринарная же.) Никаких костей однако видно не было. Ни вдоль этого забора, ни вдоль дальнего, где уже был спуск к изрытому картофельному полю.
Долго смотрели в обширную котловину с набившимися дымящими тучками, похожую на гигантское гнездо с синими, давно охрипшими птенцами…
Вернулись оттуда назад, к бревенчатому дому самой станции, стали смотреть, как дяденька ветеринар готовится лечить лошадь.
Кобыла стояла, словно бы – готовая к чему-то. Раздутая, подобно корзине.
Пока суетливые мужички заводили её в станок, пожилой этот дяденька ветеринар держал засученную белую сильную руку в жёлтой перчатке – как свой рабочий инструмент. Кверху. Посмотрел на ребят. Ребята кивнули, ужавшись до размеров стебелёчков. Буркнул что-то, отвернулся. Строгий. Он был завёрнут во весь рост в прорезиненный фартук. Подошёл к кобыле сзади…
А дальше было невероятное, неправдашнее…
Он запустил в кобылу руку почти по плечо! Он переворачивал что-то внутри кобылы, пихал, торкал, точно на место, на место уталкивал! Лицом ветеринар прижался к шерстяному боку лошади. Глаза его напряжённо промаргивали в очках с одним колотым стёклышком.
Кобыла, взятая в станок да вдобавок одерживаемая со всех сторон мужичками в кепках, вздёргивала глаза испуганно и больно. Всхрапывала. Зад её приседал от боли, она стеснительно пруцкала вокруг руки ветеринара. «Ну, ну, милая! Стой, родная, стой!» – тихо бормотал ветеринар. Ветер шевелил, дыбил седые клоки его волос. Вместо дужки на очках – засалившаяся резинка оттопырила пельменное ухо его. «Держите, мужички, держите!» – всё бормотал тихо ветеринар. Мужички старались, одерживали со всех сторон. Стоптанные сапоги мужичков теснились, сталкивались как бобышки…