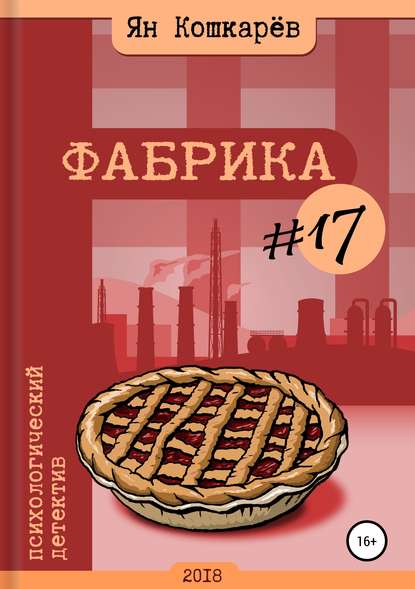По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фабрика #17
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Черт с тобой!
– Молодец! Умница! – обрадовался Ваня. – Зайди в бухгалтерию, пусть командировочные оформят. Пока будешь оформляться, сообщу заказчикам о твоем согласии.
Коренев уставился на тыльную сторону брошюры и продолжил сидеть.
– Слушай, а почему ты мне предложил? – спросил он. – Может, кто-то бы из наших заинтересовался. Например, Михайленко, он и пишет быстро, и с деньгами у него вечные проблемы – все-таки пятеро детей. Он в командировку поедет, будто в отпуск на море. Три месяца вдали от семьи – для него мечта десятилетия. Жене грех жаловаться, потому что Михайленко столько за четыре года не зарабатывает.
– Хотят именно тебя, – сказал Ваня и сглотнул.
– В смысле «именно меня»?
– В прямом. Позвонили и потребовали, чтобы ты лично написал этот опус, а прочих даже рассматривать не желают. Я сразу Михайленко предложил, я же стараюсь заботиться о сотрудниках. Но они уперлись, ни на кого другого тебя менять не согласны.
– Странно, откуда им обо мне известно?
Ваня развел руками:
– Никогда на фабрике не был, ничего сказать не могу.
Подозрительно.
– Им кто-то тебя порекомендовал, – предположил Ваня. – Я бы не заморачивался. Ну, захотелось людям дать тебе работу, подумаешь, делов-то.
– Вот это и подозрительно. Ни с того, ни с сего…
– Накручиваешь. Я бы согласился без раздумий, но мне никто не предлагает, – вздохнул Ваня. – Не рассиживайся, иди к бухгалтеру за авансом. Вернешься – определимся с датами, телефонами и с прочей чепухой.
Коренев пошел к двери, но на пороге остановился и спросил:
– Ты помнишь, как посылал меня на выставку детского рисунка?
Ваня прищурил глаз.
– Было дело. Ты, кстати, так и не принес статью, а я на нее оставил место в макете. Пришлось заполнять полосу рубрикой «Знаете ли вы?» Знаете ли вы, сколько у улитки зубов?
Ваня взял лежащий на столе острый карандаш и принялся затачивать перочинным ножиком. Получалось неаккуратно, грифельный кончик постоянно скалывался.
– Не моя вина. Выставка на следующий день закрылась, и меня попросили ничего не публиковать, – сказал Коренев.
– Какая досада, – отреагировал Ваня безразличным тоном.
– Мне сообщили, что неизвестный молодой человек в нетрезвом виде пытался испортить одну из картин.
Главный редактор сдавил карандаш, и тот с громким хрустом переломился. Ваня в молчании выбросил оставшиеся куски в мусорное ведро и смел со стола опилки.
– Я думаю, этим молодым человеком был ты.
– Да, я. И что?
– Почему?
– Не знаю, – Ваня взял другой карандаш, но не стал его точить, а лишь мял в руках. – Стою, смотрю, и вдруг на меня такая злость нашла. Она с портрета таращилась глазищами, словно сверлила… Прямо в душу заглядывала. Я испугался, в жизни так страшно не было, будто молнией ударило, и сразу протрезвел. Показалось, мгновение – и она во мне навсегда останется. Знаю, звучит глупо, но я решил не сдаваться и бороться, содрал картину и пытался ее растоптать, но мне не дали.
– М-да, – протянул Коренев. – Сколько проблем из-за безымянного детского рисунка.
– Почему же? Было у нее название. Я его тоже порвал.
– И как же она называлась?
– «Многословие», – сказал Ваня, и карандаш в его руках снова сломался.
#11.
Он листал страницы рукописи, просматривал ненавистный текст и не узнавал строчки. Они были его, им написанные, но одновременно чужие, обезображенные сном. Бумага изменила цвет и превратилась из ярко-белого офисного прямоугольника в желтеющий пергамент с рассыпающимися уголками.
Буквы, напечатанные на довлатовском «Ундервуве» с его знаменитыми парящими в воздухе круглыми черными клавишами трансформировались в рукописный текст. Засечки и выносные элементы удлинялись, вытягивали спинки, прогибались по-кошачьи и сплетались завитушками в нечитаемую пушкинскую вязь. Он не столько читал, сколько нашептывал текст по памяти, словно молитву. Язык облачал мысль в шорох заученных строк.
Многословие.
Слово ударило топором в голову и разделило мозг на две половины – на логику и эмоции. Логика скукожилась до размеров спичечной головки и исчезла.
«Молодой человек, вы должны бороться с многословием. Она вам жизни не даст». Старый дурак, путающийся в местоимениях. Для него и кофе, небось, среднего рода.
Попытался прекратить чтение, но язык не слушался и продолжал произносить причудливые сочетания слогов, которых в книге не было:
– …прокрастинация, плеоназм, глоссофобия, логорея, претенциозность, палинфразия, обнубиляция, тифлосурдоолигофренопедагогика, фиброэзофагогастродуоденоскопия…
Сконцентрировался на руках. Сжал ладони в кулаки и перестал переворачивать обветшавшие странички. Рукопись вспыхнула и оставила тлеющие лоскуты, опадающие дождем.
Нужно проснуться! Ему известно, что он лежит на старой кровати, в продавленном матраце, и даже ощущает пружину, упирающуюся острым концом в ягодицу. Одно усилие, и он вырвется из кошмара в осмысленное бытие. Скучное, болезненное, беспросветное бытие.
В сон кто-то проник, словно прыгающий с десятиметрового трамплина олимпийский чемпион, бесшумно, но огромной энергией входящий в воду. Края сновидения раздвинулись, пропустили незнакомца и сомкнулись без следа.
– …прокрастинация, плеоназм, глоссофобия…
Слова пошли по второму кругу, но тише, словно их предназначение исполнилось.
Проснись! Немедленно! скомандовал себе и ощутил крадущуюся сзади прохладную пустоту. Холод тянул в пропасть. Появилось ощущение падения – самой неприятной разновидности, когда валишься назад беззащитной спиной.
По-кошачьи развернулся и приземлился на четыре лапы, то есть ноги… Или все-таки руки? В мыслях наступила путаница. Перед глазами блеснули черные лаковые туфли на высоком каблуке.
Рея!
– Андрюша, вставайте, – пропела она. Ее голос медовой патокой лился в уши и стекал сиропом по барабанной перепонке. – Негоже в вашем возрасте ползать на четвереньках. Вы взрослый и состоявшийся мужчина, которому полагается твердо стоять на ногах.
Она над ним подтрунивала. Он ненавидел быть объектом легкой иронии, не говоря об откровенных насмешках. Он привстал и неуклюжими движениями струсил пыль с колен.
Сон приобрел реалистичность. Привычная для сновидений размытость сменилась преувеличенной резкостью контуров.
Другие электронные книги автора Ян Михайлович Кошкарев
Край




 0
0