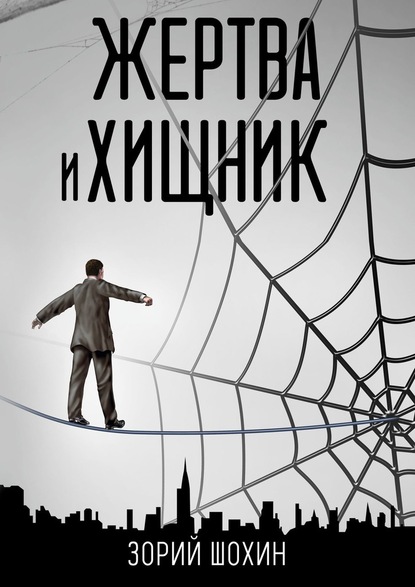По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жертва и хищник. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А жаль! Интересно было бы! – оскалился Томлинсон в жесткой улыбке, но объяснять ничего не стал. – Попробуйте…
Спросить для чего Эдюля не посмел.
– 6 —
Внезапно зазвонил телефон. Номер ему не был знаком. Мелькнула было мысль, что это мать. Она всегда умудрялась найти его, где бы он ни находился. В большинстве случаев, если высвечивался номер ее мобильника, Эдюля не отвечал. Но мать не отставала: она настигала его в машине, в отеле, в кафе, парикмахерской или в туалете. Ей ничего не стоило попросить связаться с ним по телефону кого-то из знакомых и даже незнакомых людей. Ну кто, скажите, решится отказать матери, которая разыскивает своего сына?
– Слушаю, – произнес он изменившимся голосом.
– Сынок! – высморкалась в платок мать. – Как ты там? Я так соскучилась…
– Все нормально, мама, но я занят, – невольно цыкнув, произнес Эдюля. – Как там у тебя?
– И ты еще спрашиваешь! – Концентрация укора в голосе матери стала куда гуще. – Разве ты не знаешь?
Эдюля тоскливо скривился: начинается!
– Остаться на старости в полном одиночестве! При живом сыне…
– Адель, – сдерживаясь, клацнул зубами Эдюля. Он всегда называл мать по имени, – не тяни из меня жилы. Я не самый плохой сын на свете…
– Не могу! Не могу! Не могу! Я умру! – всхлипывая, зачастила мать. – Ты меня в гроб загоняешь! Своими руками! Сколько мне там осталось? Какой же ты безжалостный!
В ее режиссуре это означало, что еще немного – и она издаст последний полувздох-полустон. А он, ее сын, сволочь такая, мерзкий эгоист и безжалостный убийца, даже не пожалеет.
– Ну скажи, чего тебе не хватает? – куда громче, чувствуя, как тяжелеет в руках телефонная трубка, гаркнул Эдюля. – Посмотри вокруг: как живешь ты – и как другие! У кого есть то, что есть у тебя? Не тебе ли я купил квартиру в центре Манхэттена? Знаешь, сколько я за нее выложил?
– Ты считаешь деньги своей матери? Возьми, возьми ее назад, сыночек… – Обида и возмущение, казалось, победили подступающие рыдания.
– Да имей же, наконец, совесть! – свирепея, завопил Эдюля. – Еду тебе приносят из ресторана, лекарства получаешь из Швейцарии…
– Я одна… – Голос матери перешел в едва слышный шепот, сдобренный всхлипами. – Ты знаешь, что такое быть одной? В полном одиночестве…
– Пригласи компаньонку, я и за нее заплачу тоже! – продолжал бушевать Эдюля. – Только не приставай, как банный лист…
– Ну почему, почему ты не хочешь брать меня к себе? – не унималась мать. – Что я тебе сделала?
Эдюле вдруг показалось, что он воочию видит, как она заламывает руки. И дышит при этом, словно вытащенная на берег рыба.
– Потому что не могу! – Телефон был на грани взрыва.
Мать рыдала. Скольких нервов стоили ему эти разговоры с ней.
– Когда ты был маленьким… – Голос матери едва слышался сквозь слезы и всхлипы.
Взбешенный Эдюля дал отбой. Мать была его стыдом и болью. Иногда он казнил себя за это, но жить с ней он не мог. Он лишился бы сна. Сошел с ума. Повесился…
Звонок матери всякий раз напоминал ему о детстве. А детство свое Эдюля ненавидел. Хотя он и многого добился за свою жизнь, путешествие в прошлое вызывало у него тоскливый страх. Все ведь могло сложиться совсем иначе. Как и у других…
Однажды, еще малышом, Эдюля попал на завод. Туда его взял один из ухажеров матери. Там Эдюлиным воображением завладела огромная центрифуга. Ее со скрежетом вращающееся брюхо и вываливающаяся оттуда масса буквально потрясли Эдюлю. Она часто снилась ему, и он с испуганным ревом вскакивал среди ночи. Центрифуга так прочно въелась в его детскую, еще не сформировавшуюся память, что стала для него в конце концов символом следующей за ним по пятам беды. А когда он повзрослел, из символа она перешла в категорию метафоры. Неудивительно, что потом весь окружающий неизлечимый мир со всеми его социальными проблемами, ложью, продажностью и болячками напоминал ему гигантскую центрифугу. Улицы, города, целые континенты…
Человеческая центрифуга жила по своим законам. Жестоким и непостижимым. Запущенная кем-то раз и навсегда, она с неослабевающим аппетитом перемалывала в фарш одно за другим целые поколения. Чавкая, ломала и крошила слабых и беспомощных. Только сильные и ловкие как-то умудрялись избежать общей судьбы: сбивали и путали механизм своей нестандартностью. Стопорили могущественные колеса. Из инструкции к воображаемому мировому порядку Эдюля извлек одно: хочешь выжить – ищи слабинку, внутреннее несовершенство. Не дефект, а просчет! Найдешь – спасешься и выживешь!
И он старался вовсю…
Его кошмаром и навязчивой идеей была судьба задроченного раба цивилизации. Убогая клетка в кишащем сварливыми обитателями человеческом муравейнике. Обрыдлая работа. Сволочное начальство. Жалкая зарплата. Зависть. Безнадега. Купленный в рассрочку в награду за рабство широкоэкранный телевизор. Вымученный секс с вечно ворчащей и недовольной всем на свете женой. И в качестве запредельного витка счастья – дешевый туристский галоп по загранице. Подумать только, что его ждало, не выкарабкайся он любыми путями на волю! Какое, однако, дешевое и оскорбительное убожество!..
Самое обидное, что у жизни была и будет другая сторона. Та, что с самого рождения улыбается счастливчикам. Похожая на сказку. Сверкающая многочисленными огнями. Гремящая музыкой. Наэлектризованная роскошью и ожиданием. Гудя и отражаясь в звездной россыпи, она, подобно рассекающему волны гигантскому лайнеру, несется по капризному океану жизни. Туда. Вперед и вперед. К изнеживающему комфорту! К острым и волнующим ощущениям! К сменяющимся одно за другим удовольствиям!
Лайнер этот – судьба. Фортуна! Удача! Выигрыш! Любимчикам – шик и комфорт. Пасынкам – давка и теснота. На верхних его палубах – полуобнаженные женщины в драгоценностях и разгоряченные вином и азартом мужчины. На нижних, в трюме – угрюмые лица и саднящие от усталости кости. Пресыщение и шик для одних – и затхлое дыхание неудач для других. Для кого-то закон – любое желание и каприз. А для кого-то даже не скромная мечта, а лишь иллюзия и обман.
Куда и зачем мчится этот обезумевший Ноев ковчег в ночи мирового несовершенства и несправедливости? Что празднует, пьянея от собственной свободы и капризов? Пир во время чумы? Пикник на вершине вулкана? Кем начертан маршрут? Кто капитан? И куда он в конце концов его приведет? Эй ты там, на мостике, с загадочной улыбкой и стальным отблеском во взгляде, ты-то хоть знаешь, о чем речь?
Эдюля не принадлежал к числу борцов или мятежников. Он бы не выдержал. Его бы тут же раздавило. Не было в нем ни заряда бунтарства, который превращает аутсайдера в лидера, ни харизмы. Мало того, не проглядывалось даже малейшего намека на притягательность. Зато было неодолимое желание. Решимость загнанного в капкан живого существа, готового на все, лишь бы освободиться.
Все его существо – мозг, сердце, почки, желудок – было настроено на то, чтобы порвать путы. Выкарабкаться! Выскользнуть! Убежать! Из трюма – наверх! На палубу! Любой ценой. Неважно, какими путями! Кто-кто, а уж он-то, Эдюля, центрифуге не дастся! Он, Эдюля, ее перехитрит. Сбежит. Одурачит. Вывернется…
Кроме воспоминаний, его связывала с былой жизнью лишь семидесятивосьмилетняя маникюрша – мать. Она была его стыдом и болью. Извечным упреком и унизительным шрамом вины. Старая Адель висела на нем, как камень на утопленнике. Сковывала по рукам и ногам. Не давала жить как ему хотелось. Ей нужен был он и только он, ее Эдюля. Единственный и неповторимый. Сын! Надежда! Боль! Божество! Больше у нее никого на свете не было. Чужих возле себя она не терпела. А он…
А он, Эдюля, готов был на любую цену, на любую жертву, лишь бы она освободила его от самой себя. Родственные связи были для Эдюли оковами. Моральные обязательства – карцером. Взять Адель к себе значило бы вновь стать рабом. Какая, к черту, разница, кому ты должен: матери, жене, детям или государству? А рабство Эдюля ненавидел. Бежал от него всю свою жизнь. Боялся. И старался о нем не вспоминать…
Первые его детские шаги были окрашены в безысходные тона. Он появился на свет в угрюмом и обшарпанном доме, где когда-то на верхних этажах жили люди побогаче, а на нижних – прислуга. Ходила молва, что дом этот выглядел когда-то по-другому. Но в памяти Эдюли он уже остался похожим на трехэтажный барак. Облупившаяся штукатурка. Ржавые решетки. Вонь в подъезде. Подслеповатые лампочки. И ко всему прочему похожий на выгребную яму двор.
Там, где в далекие времена жил врач, при советской власти ютилось шесть семей. Больше двух десятков взрослых и детей. Общая кухня, коридор с выбитыми стеклами. Рядом со стеклами в оконных фрамугах – картонки и фанера. И общая кухня, где граница между соседскими столиками и таганками охранялась строже, чем государственная. Нарушитель подвергался шумному и демонстративному наказанию.
По утрам перед отечным от извечной плесени сортиром выстраивалась нервная очередь. Зимой, когда дул ветер, она воспалялась, подобно незалеченной язве. Чтобы не бегать по ночам по холодному коридору, Адель держала под кроватью ночной горшок, который старалась выносить так, чтобы не столкнуться с соседями.
Раннее детство Эдюли пахло непроветренной кухней и парикмахерской, подгоревшей картошкой и лаком для ногтей, жареной рыбой и ацетоном. Мать, кстати, так никогда и не научилась готовить. Варила наскоро сосиски, а к ним – картофельное пюре или макароны. Зато она была мастерицей придавать ногтям особо ухоженный вид. И тайно подрабатывала этим дома тоже.
Стоило в памяти Эдюли возникнуть этой картине, как его начинало тошнить. Он ненавидел въедливый дух их тесной каморки. Неистребимый дух чего-то подгнившего и липучего. А тот исходил от стен, от мебели, даже от ночного горшка. Мыться все ходили в районную баню…
В молодости Адель была кругленькой и пухлой брюнеткой. Глаза чуть навыкате, размером и цветом напоминающие спелые сливы. Гладко расчесанные черные волосы. Ямочки на смуглых щеках. Любила индийские фильмы. Хихикала над идиотскими шутками конферансье по телевизору. К Эдюле она относилась так, словно он был куклой. Сама шила и примеряла ему рубашечки и штанишки. Одевала и раздевала. Все всегда в облипочку. С замысловатостью.
Баловала его Адель как могла. Сюсюкала. Тискала ярко наманикюренными пальцами. Пощипывала. Скармливала разную вкуснятину. Казалось, она хочет его задобрить. Оправдаться за какой-то свой безоглядный поступок или грех. Так, наверное, и было. Ведь отца своего Эдюля никогда не видел.
Иногда его по ночам брала к себе подружка матери – педикюрша Роза. У той детей не было. Она тоже затискивала его ласками. Запихивала в рот сладости и фрукты. Он так привык к обеим, что иногда путал, кто мать, а кто ее подруга. И обеих называл по имени: одну – Аделью, другую – Розой.
К счастью, уже в первом классе школы Эдюля с матерью переселились в новенький блочный дом, пусть даже и в далеком микрорайоне. Адель выделили там однокомнатную квартирку. Переезд туда стал самым счастливым днем в их жизни. Квартира была небольшой, но зато своей. Без соседей. С крохотной отдельной кухонькой и туалетом. И хотя теперь они жили уже не в центре, счастью не было предела. Увы, как оказалось, цена удобств всегда чрезвычайно высока.
Однажды Эдюля прибежал из школы раньше времени. Быстренько провернув ключ в двери, он увидел тощие мужские ягодицы какого-то серовато-зеленого цвета. Толчок – и они, как качели, ухали вниз. Еще один – и они с хлюпаньем вздымались вверх и сразу же опадали над двигавшейся в такт им матерью.
Дядька сипло хрипел, Адель испуганно повизгивала. Эдюля замер. Потом послышались не то клекот, не то верещание и вымученный стон исхода.
Эдюля был настолько поражен увиденным, что остановился как вкопанный. А потом выскочил из дома…
Вечером Адель вернулась из парикмахерской не одна – с Розой. Мать плакала, трясясь от душившего ее изнутри напора. Роза взяла Эдюлю за подбородок. Она говорила, а ее слова вбивались в него, как гвозди в стену.
– Думаешь, Эдюля, мне нравится парить ноги и стричь ногти на них? Совсем нет! Если бы мама не делала то, что она делает, не было бы у вас ни вашей квартирки, ни тех вкусных вещей, которые ты так любишь.