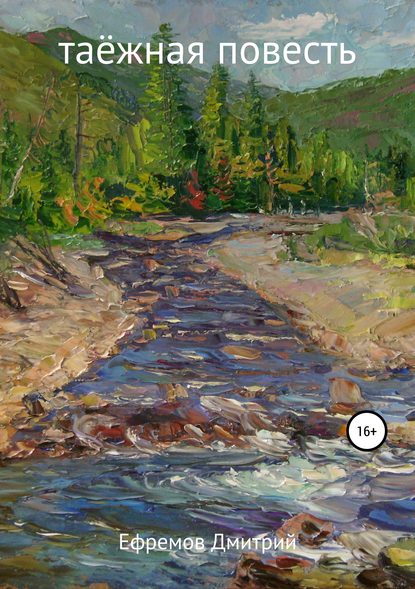По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Таёжная повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мишку едва не стошнило. Он отставил работу и посмотрел ей в глаза. Смотреть в них и видеть своё отражение и победу было невыносимо. Ему стало жалко бессловесную тварь, смотревшую на человека преданными глазами. Он подошел к собаке и погладил ее. Собака лизнула ему руку и вильнула хвостом.
У Мишки сдавило горло. Она лишь делала своё дело, подчиняясь звериному инстинкту, и не совершила никакого подвига. Оказавшись в таком положении, у собаки уже не было шанса выжить, и быть может, подсознательно чувствуя это, она тихо скулила. Редко какой хозяин выхаживал раненую собаку.
Он постарался избавиться от эмоций, время было дорого, и надо было заниматься делом. «Не за горами вечер, а там и ночь». До пасеки было неблизко. Мишка представил предстоящие хлопоты и постарался отбросить все эмоции.
Куцый все так же бдительно охранял добычу. Он ходил перед носами собратьев и показывал каждой по очереди свои молочные зубы. От этого зрелища можно было сдохнуть со смеху. Щенок с каждым разом преподносил все новые сюрпризы. Злоба так и перла из него, хотя собаки обращали на него внимания не больше, чем на гусеницу, ползущую по дереву. Он еще раз посмотрел на лайку заводилу. У такой собаки должен был быть хозяин. У них у всех должен был быть хозяин. И вдруг его осенило. Он же вор. Ведь это были не его собаки. Он убил зверя, который по логике принадлежал хозяину собак. Но случай решил всё по своему, и зверь лежал мертвым.
– Ладно, – решил Михаил. – Появится хозяин, мне лучше. Меньше тасканины. А если будет на коне, то и вовсе хорошо. Он принялся разделывать тушу. Начинать надо было со шкуры. Руки немного пощипывал морозец, но когда от туши пошел сладковатый и теплый дух, пальцы ожили. С детства он знал одну главную мудрость этой процедуры: «Главное, это не задеть селезенки, все остальное уже как угодно».
Собаки ждали своего и убегать не собирались. Они по-прежнему лежали на земле и тихонько поскуливали. Если бы не человек, они перегрызлись бы, на то они и были собаками. Он бросил каждой по куску и принялся за дело. На разделку ушло больше часа. Спина затекла от неудобного положения, по шее стекал пот, а ноги уже тряслись от напряжения. Но это была всего лишь прелюдия. Неожиданно собаки повскакивали с мест и исчезли в чаще. Осталась только одна, с оторванной лапой. Собаку было жалко. Он уже подумал пристрелить ее, но, вспомнив о дробовике, оставил эту затею. Пёс смотрел на него грустными глазами, и взгляд этот разрывал душу на части. На брошенный кусок мяса собака даже не посмотрела.
Он набил доверху рюкзак и с трудом взвалил на спину. То, что предстояло сделать, было сравнимо с подвигом Геракла. Вытерев о снег жирный нож, который уже успел затупиться, он подошёл к раненому псу. Может, собака почувствовала, что её ждёт, может, это было всего лишь простое собачье горе, но смотреть ей в глаза он уже не мог. Михаил сунул нож в голенище, отвернулся и, немного пошатываясь, оставляя на раскисшем снегу глубокие следы, пошел к дороге. Местность он знал хорошо. «Лишь бы не забрел медведь или, еще хуже, человек». Пройдя полсотни метров, он услышал за спиной пронзительный вой собаки, переходящий на жалобный лай. От этого звука он почувствовал, как в его жилах застыла кровь. Это было нестерпимо. Он понял, что собака просила его о помощи, и она тоже как и он, всё понимала. Он проклял все на свете. Этот лай выворачивал всё душу. Он с трудом отрывал ноги от земли. Не от тяжести рюкзака. Не мог он согласиться с мыслью, что собаке – собачья смерть. В некотором роде, она была его другом и сослужила ему службу. Ей всего лишь не повезло. А то, что сородичи бросили ее, было естественно. Но он-то, как он мог поступить по-собачьи. Он был человеком.
Под ногами, как ни в чем не бывало, семенил Куцый. Он выглядел нелепо, съев мяса больше, чем весил сам.
– Чтоб ты подавился, – выругался Мишка и вернулся к собаке. Увидев человека, собака вильнула хвостом. В ее глазах мелькнула слабая надежда. Ему так показалось. Он не был уверен, что сможет донести собаку до пасеки, но он уже решил. И отказаться от собственного решения он уже не сможет. Он с трудом опустился на колени и аккуратно приподнял собаку с земли. Она жалобно заскулила, прихватывая зубами его руки, но не сильно. Ей было больно. Ему было не менее больно, но уже на сердце. Немного пошатываясь из стороны в сторону, он пошел обратно по дороге. Уже темнело.
«Зимний день краток. Зато ночь длинна», – думал он, как в бреду. На ум приходили отрывки из разных произведений. Вспоминался Мамин-Сибиряк с его таёжными рассказами, и Шишков, и даже Федосеев. Было что-то роковое в этом соответствии похожести, и в то же время возбуждающее душу и вселяющее силу, не позволявшее бросить задуманное, словно кто-то большой и незримый вёл его как по этой заснеженной пелене, так и по жизни. Он был всё тем же русским человеком, одержимом, и в то же время спокойным и уверенным в том, что всё, что его окружает принадлежит только ему и зависит только от него, от его желания обладать и быть его частью. Временами в сумрачном пространстве он видел самого себя сверху, медленно бредущего среди ночного безмолвия. Иногда рациональное сознание возвращалось к нему, и тогда он чувствовал как тянула к земле тяжесть, как резали лямки его рюкзака, передавливая плечи так, что дышать было невмоготу. Мысли его затуманивались, они уже плутали среди незнакомых дебрей в полной темноте, и лишь снежный покров не давал им сбиться с пути, не позволяя разуму покинуть эту землю и уйти в небытиё отупевшего сознания. Он опять видел глаза убитого зверя. Звери не закрывают глаз, когда их убивают. Он это знал хорошо, может поэтому некоторые охотники протыкали ножом глаза своих жертв. Это было неприятно видеть, но теперь он мог понять, зачем. Шел он медленно. Ноши он уже не чувствовал. Ему казалось, будто что-то приросло к его спине. Шаг за шагом он брёл вперед, оставляя на снегу две непрерывных борозды. Собака на руках лежала тихо и вела себя достойно. Лишь однажды она заскулила, когда он поскользнулся на льду, скрытом снегом, не удержался на ногах и смачно грохнулся на больное плечо. В глазах его помутнело. Собаку он умудрился не уронить. Если бы не Куцый, геройски вышагивающий впереди и вселяющий оптимизм в его душу, он, наверное, не дошел.
Когда показался чёрный силуэт его пасеки, на небе появилась луна. Дымка куда-то исчезла, и он увидел море звезд. Ему показалось, что он в мире один. Изо рта валил пар, а заиндевелый снег уже хрустел под сапогами. Он облегченно вздохнул: «Дома».
Скинув в прихожке рюкзак, он внес собаку в дом и положил на еще теплую плиту. Потом зажег керосинку. Где-то была иголка и капроновые нитки. Не хватало света, но другого не было. Руки тряслись от усталости. Он достал самогонку и отхлебнул два глотка, даже не почувствовав её крепости, потом обработал рваную рану пропитанной самогонкой тканью. Этого можно было и не делать, процедура лишь придавала ему уверенности в том, что Михаил никогда не делал. Но это не останавливало его от задуманного дела. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Он зажёг керосинку, потом нашёл в кладовке широкую доску, вместо настила. Однажды ему довелось видеть как оперируют собаку. Её привязывали. Он так и сделал, притянув и голову, и лапы к этой доске. Кобель совсем не сопротивлялся, и лишь один раз визгнул от боли, едва прикусив Мишкину руку. Почти в полной темноте, чуть ли не на ощупь он зашил развалившиеся края шкуры; буквально пришил ногу. Собака вела себя достойно, и только поскуливала, когда Мишаня затягивал нитку. Это был молодой кобель, простая дворняга, каких бегало немало по деревням. Одни их собирали для своры, чтобы травить зверя, другие на откорм, были и такие. Ему был нужен только друг. Он так и оставил его на плите, опасаясь, что пёс околеет в нетопленой избе.
Мясо пришлось носить всю ночь, благо, что луна всегда оставалась на небосклоне, просвечивая сквозь облака, и давая предметам четкие контуры и тени. Уже на четвертый раз, когда на месте убийства ничего не осталось, кроме шкуры и требухи (голову с рогами он спрятал), на его тропу вышел медведь. Это был полуросток, уже не пестун, но ещё не взрослый. Зверь почуял запах крови и пришёл на пир ко времени. Крик ворон и падающие с рюкзака капли крови привлекли его к месту.
– Чего тебе? – негромко, но с угрозой произнес Мишка. Он остановился. Придумывать было особенно нечего, надо было просто стоять и ждать. Если бы не Куцый, неизвестно, чем бы закончилась его встреча с косолапым бродягой. Недоделанным человеком, как ему порой казалось. Слишком часто доводилось Михаилу встречаться с этими лесными людьми, и всё больше склонялся он к той мысли, что от всего таежного народа медведь всё же отличается, а значит, и относиться к нему надо соответственно. Залегать ему было не время. По его раздутым бокам было видно, что медведь был не голоден, но кто же устоит от такого соблазна? Зверь топтался на одном месте и втягивал воздух. Он тоже был растерян, быть может, впервые встретив на своей тропе человека. Конечно же, он чуял свежее мясо, и, скорее всего, именно этот запах притянул его к месту, где лежали остатки разделанного изюбря. Даже в темноте было видно, как внимательно смотрит зверь на вторгнувшегося в его владения чужака. Как изучает все его слабые стороны. Втягивая запах человека, медведь шипел, как змея, но стоило ему сделать несколько шагов, как Куцый раскрыл свою пасть и бросился в атаку. Не ожидая такого поворота событий, медведь рявкнул и в один прыжок исчез в чаще. Михаила поразила быстрота и проворство зверя. Еще больше поразил его Куцый, скрывшийся вслед за медведем в черном лесу. Ему стало страшно и обидно. В мыслях он похоронил щенка. Слышался шум ломающихся сучьев и лай Куцего. Потом снова воцарилась тишина, но теперь уже гнетущая и гибельная, в которой Михаил почувствовал себя ничтожным и до жути одиноким. Он не стал ни звать, ни ждать щенка. «Если вылезет из переделки, то сам найдет дорогу домой. Если же нет, значит, судьба», – горестно подумал Михаил и поплёлся по уже натоптанной тропе.
Понемногу рассветало. Он прибавил шагу. Первые приступы усталости прошли. Он уже больше походил на робота. Надо было идти. В этом мире каждый выживал, как мог. И получилось так, что один выживал за счет другого.
Когда совсем рассвело, в омшанике уже стояло четыре бачка, доверху набитых присоленным мясом. Куцый никак не выходил из его головы. Его жгла обида: не жили у него собаки. И когда щенок, весь всклокоченный, с языком до земли, появился на пасеке, Мишка готов был целовать его в задницу. Куций лез мордой в лицо и облизывал хозяина, подняв невообразимый визг. Уже на правах полноправного компаньона он крутился под ногами, по пятам следуя за хозяином, сопровождая Мишку на каждом шагу. В довершение всего Куцый обнаглел и залез на кровать.
– Ну-ка, пошёл вон, подлюка! – затопал на него Михаил. Щенок мухой слетел с койки и с писком вылетел в незакрытую дверь. – Я тебе покажу барскую постель!
Куцый уселся посреди двора, облизываясь и виляя хвостом.
Больше всего удручало не чувство смертельной усталости. Спать ему не хотелось. Одиночество. Вот что душило его в эту минуту. Он готов был отдать половину быка, лишь бы поделиться удачей хоть с кем-нибудь.
Дел больше не было. Оставалось только доползти до кровати и упасть. Мишка постелил в угол телогрейку, оставленную кем-то из лесников, и переложил Рваного на новое место. Слово ему понравилось, и он несколько раз повторил новую кличку, поглаживая пса. Кобель лежал тихо, едва шевеля кончиком хвоста.
Он растопил печь. От долгого его отсутствия колодцы успели основательно остыть. От этого комната наполнилась едким дымом. Он приоткрыл дверь, в которую тут же просунулась хитрая голова Куцего. Михаил пригрозил кулаком, и голова исчезла.
При дневном свете сон не брал. Он лежал и смотрел в потолок. Перед глазами крутились картинки минувшего дня. Он попробовал сочинять письмо другу. Этим надо было поделиться. «Было бы здорово, если бы приехал кто-нибудь из Горного».
Он встал. Звуки шагов гулко отозвались в ушах. Оперевшись о дверной косяк, он высунулся наружу. В доме было уже невыносимо жарко, ему не хватало воздуха. На плите шкворчала в сковороде печенка. Мишка вдруг задумался, не в силах вспомнить, когда успел ее приготовить, нарезать репчатого лука, заправить приправой. Так и не вспомнив, он сел за стол. Только сейчас он почувствовал страшное чувство голода. В отличие от Куцего, он не мог есть сырого мяса, хотя от мороженой печенки не отказался бы. Он свистнул щенку. Тот валялся среди двора и даже не шелохнулся на свист, словно сдох. Мишка заволновался и швырнул в щенка башмак. Кобель вильнул хвостом и опять «сдох». Мишка усмехнулся, вспомнив, как тот охранял добычу от собак: «Вот подлюка, родится же такой».
– У нас сегодня праздник, – обратился он вслух к самому себе. – Эх, жаль, не с кем отметить это дело. Такой случай, – он позвал котёнка и бросил ему косок печёнки. Потом он взял банку и налил до половины в эмалированную кружку. Самогонка была крепкой и вонючей. В ней улавливался запах диких груш.
– Хороша горилка! – похвалил он сам себя. Его передернуло, и он пролил немного на стол, потом достал спички и поджег. Пламени было почти не видно. Он поднес руку и сразу же отдернул. От пойла в животе потеплело. В голове зашумело, и он принялся за свежую поджаренную печенку. Не было ничего вкуснее жареной печенки. Ему похорошело. На душе отлегло, он стал размышлять о смысле жизни и сошелся на мысли, что все не так уж и плохо. Он налил еще: «Пошло, конечно, пить в одиночку». Он ухмыльнулся и посмотрел на свои руки, словно и не было ничего. Ни изюбра, ни медведя, ни своры собак. Он вспомнил, как орал, когда убил зверя: «Жаль, людей не было».
Достав листок бумаги, он стал строчить письмо: «Привет, старина. Хочу поведать тебе о своей убогой жизни…»
Неожиданно накатил смех.
– Надо же, Куцый! Вот подлюка, – он закатился в истерике так, что из глаз выступили слезы. Он вспомнил, как щенок кидался на собак, охраняя добычу. Он отложил листок и вышел из дома. Его слегка покачивало. Куцый уже крутился рядом, залезая мокрой мордой в объятия хозяина.
– Ах ты ж, балбес, – Мишка поднял щенка на руки. Куцый отвернул по-хамски морду и зарычал, заранее зная, что будет драка и его станут ощипывать, как рябчика.
– Скотина ты, Куцый, неблагодарная. – Щенок был единственной утехой среди нескончаемых забот и проблем. Поэтому относился Мишка к своему любимцу, как к человеку.
– Пойдём-ка мы спать, Куцый (щенок стал лизать лицо хозяина), – завтра рано вставать. Сегодня, – поправил он сам себя. – Уже сегодня! Иди к черту, Куцый. Не хочу я тебя злить.
Щенок мягко приземлился на лапы и, отпрыгнув в сторону, присел, задрав трубой хвост. Ему хотелось играть.
В доме стало прохладнее. Он уже ни о чем не волновался и ничего не хотел. Ни вчерашний, ни завтрашний день нисколько не заботили его. Он просто жил. «Письмо после, когда все наладится. Когда будет о чем сказать, а то, что было, – это все неважно». Уже в полудреме он скинул сапоги и завалился в одежде поверх одеяла, предоставив охранять свой сон своим друзьям.
Долгая зима осталась позади. Длинные, сумрачные вечера промелькнули, как один. За это время он несколько раз побывал на пасеке. Рваный быстро поправлялся и, оставив после себя неровный след, подался в деревню, к своим. Некоторое время Мишаня ходил огорчённым, словно его предали, но потом подумал, что кобель поступил как и следовало ожидать. Свои есть свои. Да и лишним был пока в его мире, чужим. Другое дело Куций, вскормленный из рук, и преданный до гробовой доски.
Остались позади курсы пчеловодов в областном центре.
Удалось много. На весну уже лежал и ждал своего часа сахар. Мишка умудрился даже выбить квартиру с телефоном в райцентре. И хотя бывал в ней редко, карман она не давила. Правда, под окнами возвышалась кочегарка с кучей угля, размерами с египетскую пирамиду, но это его мало пугало, как и слой угольной пыли на подоконнике. К началу сезона ему опять крупно повезло. Освободилась соседняя пасека, как раз та, где он составил на зиму своих пчел. Это было очень кстати. Где бы Михаил ни появлялся, всюду видели его широкую улыбку. По такому случаю он даже бросил курить.
Новое место было просторным, да и ближе к деревне. Открывались новые перспективы, от которых захватывало дух. Но сам Мишка так и оставался одиноким и диким. Иногда он заезжал в Столбовое к хорошим знакомым. Встречали его, как полагается. Мишку любили за его широкую натуру. Да и сам он никогда не приезжал пустым. За «поллитрой» решались житейские дела и обсуждались свежие новости. Выходя от деда Василия (дед был закадычным приятелем его отца), он, немного пошатываясь, брел к себе на пасеку. Дорога была неблизкая. В нос лезли весенние запахи, оживляя в душе и теле омертвевшие за долгую зиму уголки памяти. Это было словно впервые, и в тоже время до боли знакомое чувство какой-то детской безусловной любви, за которую ничего не надо. На вербах уже суетились пчелы, собирая первую, и самую благодатную пыльцу. Сами вербы, покрытые прозрачным пухом, светились на солнце, и делали невзрачный весенний лес воздушным.
В Столбовом многие держали пчел. «Где-то и мои пчелы летают», – разговаривал сам с собой Мишка. «Дед все же успел сунуть в рюкзак что-то. Вот старая телега», – смеялся он над бесхитростной щедростью старика. Дед Сухарев был знаком ему еще с пеленок и всегда был искренне рад, когда Михаил заглядывал к нему в гости. Захмелевший от завстречной стопки, он как обычно что-то бурчал себе под нос, покрикивал без злобы на хозяйку, прохаживаясь по двору маленькими шажками и шаркая по кирпичному тротуару своими вечными сапогами. Очень обижался, что сыновья потеряли к нему уважение и вечно куда-то спешат. Отец был для них уже не авторитет. Мёд качают, не предупредив, дрова тоже без него готовят. Даже выпивать не зовут. На это Вася обижался более всего, но всегда оставался для всех человеком отзывчивым и открытым. Всякий раз предлагал коня, чтобы ноги не бить зря. Тут же из глаз катились слезы.
«Коня-то спёрли наркоманы», – спохватывался он и махал рукой. Потерю дед переживал сильно. Двадцать лет – срок немалый; конь заменял ему все. Сколько Мишка знал себя, всегда у Васи был один и тот же конь.
В рюкзаке за спиной что-то побрякивало. Что, Мишка уже не помнил. Кажется, банка соленых огурцов. Хмель мягко растекался по телу, а душа радовалась вечернему солнцу, лучи которого окрашивали молодую листву в красноватые цвета. Он улыбался оттого, что у него было радостно на душе, и брел, путаясь во множестве проторенных дорог, ведущих в верховья Столбовки.
Дорога проходила по долине реки, среди загадочных, молчаливых сопок, и Мишке казалось, что лучше мест на земле, может быть, и нет. Щедрая тайга испокон веков кормила деревню, а там, где горы кончались, казаки выращивали хлеб. Жили вольготно. Все: и Козыревы, и Сухаревы, и Драгуновы, что проживали в деревне большими семьями, – были из казаков и, как ни удивительно, приходились дальними родственниками ему.
Его пасека стояла в десяти километрах от деревни на небольшом пригорке, уходящем в длинный крутой ряж, густо заросший молодой широколистной липой. Выделяла она не часто, но если такое случалось, то мёда натаскивали столько пчёлы, что не хватало тары. Это было самое красивое и удобное место из тех, где ему довелось быть. Рядом пробегал ручей и впадал в Столбовку. В этой небольшой лесной речке все лето держался хариус, а осенью заходила красная рыба. Здесь сходились распадки, образуя просторную долину, в которой всегда было много света и никогда не было духоты. Издали пасека напоминала целый город, к которому приложило свои руки не одно поколение пчеловодов. Там было много строений, но все это было ветхим и старым. К тому же прежний горе-хозяин по имени Колюня-жид основательно загадил место. Где ни попадя валялось железо, битая посуда и консервные банки. Еще пара лет, и место напоминало бы плюшкинскую усадьбу. Все это надо было убрать, и приходя на пасеку, даже под мухой, он всегда закатывал рукава и принимался за дело.
Автобус почему-то остановился напротив магазина.
– Деревня! – выругался Мишка и поплелся к выходу. До дома было еще идти да идти, но в магазин заглянуть не мешало. Правда, вспомнив о пустых прилавках, всякое желание заходить туда у него пропало.
Он остановился прямо посреди дороги, не обращая внимания на проезжавшие мимо машины. У входа, спиной к нему, стояла молодая женщина. Из-за яркого вечернего солнца ему приходилось всё время щуриться. Неожиданно он поймал себя на мысли, что хочет познакомиться с ней. Она долго не поворачивалась. Рядом крутилась девчонка лет шести с удивительно голубыми огромными глазами и белоснежной россыпью прямых тонких волос. Ему еще не доводилось видеть таких белых волос. Не было сомнения, что это была ее дочка. Он почувствовал, что испытывает непреодолимый интерес к незнакомке, хотя понимал, что со стороны это выглядит не очень прилично. Он ещё не знал, с чего начать знакомство, но ноги уже потащили его вперёд, словно кто-то подталкивал его со спины.
– Вы позволите, я вам помогу, – мягко произнес он, улыбаясь во весь рот. Его лысеющий, загорелый лоб скрывала «афганка», так что за внешний вид он был вполне спокоен. На бродягу он не походил. Перед отъездом с пасеки он не забыл почистить по привычке зубы и побрить бороду, но усы по-прежнему красовались на его лице. Девушка обернулась и тоже улыбнулась. Именно это он и хотел увидеть. Ожидания не обманули его, а лишь подтвердили догадку о её внешности. Рядом возвышалась огромная сумка не то с мукой, не то с крупой, а в руках она держала сетку с хлебом. Девушка немного растерялась и стала поправлять со лба сбившуюся челку таких же светлых, как и у дочери, волос.
– А что, – так же мягко произнес Мишка, при этом улыбка не сходила с его лица, и он жестикулировал руками, как будто искал нужное слово, – помощников с грубой физической силой не нашлось?
Не дожидаясь ответа, он аккуратно взял сумку и на какое-то мгновение пожалел об этом.
– Как вы такое таскаете? – возмутился искренно он. – Слабая, беззащитная женщина.