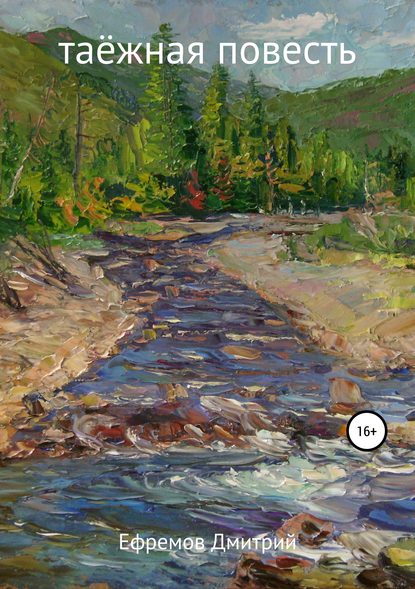По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Таёжная повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вечернее небо уже окрасило землю своим особым красноватым светом, вечер был тихим и тёплым, отовсюду слышалось пение петухов. Михаил закрыл за собой калитку и побрел в сторону Амура без всяких мыслей. Надо было убить время. На душе было мерзко. Когда он оказывался дома у стариков, у него всегда портилось настроение. Живущие всю жизнь как кошка с собакой, те никогда не знали согласия между собой, он словно оказывался между двух фронтов. Некоторые снаряды задевали и его. Порой хватало дня, чтобы плюнуть на всё и исчезнуть снова в тайге. И чем дольше он был там, тем спокойней ему было.
Оставив за спиной стариковский дом, он не спеша побрел по узенькому переулку, где носился еще босоногим мальцом. Солнце уже спряталось за китайскими горами. Во дворах тявкали собаки. Село жило своей жизнью и незаметно успокаивало расстроенные нервы.
Он просунул руку в прореху забора и сорвал цветок с груши. Оказавшись на первой улице, и проходя мимо старых лип, остановился. Идти особо было некуда. Кроме парка, где росли столетние липы, в Никольском больше ничего и не было. Когда-то село казалось ему бесконечно большим миром, и с ватагой пацанов он мог преодолевать это пространство в поисках детского счастья и приключений. За это время многое, что окружало его в детстве, исчезло. Парк был тем, что сохранилось, и напоминал ему о далёком прошлом этих мест, когда по Амуру с гудками проходили пароходы первых купцов. Когда по берегу проходили казачьи разъезды, охраняя границу. Этот парк, едва ли не самый первый на Дальнем Востоке, помнил графа Муравьёва-Амурского и его супругу. В церкви, что когда-то возвышалась на бугре, совершал молебен будущий император Николай, о чём помнили, но предпочитали молчать сторожили. Многое помнили и эти старые липы, но всё это было уже далёким прошлым.
Он зашел в парк. Ему захотелось посидеть на лавочке, которую он собственноручно вкопал лет десять назад и вырезал на ней свое имя.
Он поднялся на бугор и оказался под кронами вековых деревьев. Сколько он ни знал себя, они всегда были такими: огромными и густыми. Вокруг было чисто и аккуратно. За липами проглядывала река. Вид был знаком ему с рождения. Амур всегда завораживал его. Даже зимой, одетый в ледяной панцирь, он внушал тихий ужас, необъяснимый страх и уважение. Летом река успокаивала его. Он прошелся взглядом по едва различимому соседнему берегу. Там шла своим чередом совершенно другая жизнь другого государства. Это был чужой берег. Да и река тоже получалась чужой. С самого детства он только и видел, что два ряда колючей проволоки да пограничников. Сначала до него не доходил смысл всего этого. Есть проволока, значит, так и надо. Хотя отец говорил совсем другое, что раньше люди могли сколько угодно быть на реке, и не знали никакой проволоки и заборов. Он говорил, что вся страна, в которой он родился, вся за колючей проволокой, а люди – рабы, за что и просидел несколько лет в тюрьме. Тогда он не верил отцу. Мать кричала, не давала говорить, устраивала концерты, от которых страдали даже соседи. Отец в беспомощности психовал, доходило до драк и оскорблений. Мишке тоже доставалось. Так прошло его детство. Да и что взять было с этого детства. Поглядеть, как в путанке, тянувшейся параллельно колючей проволоке, запутается глупая корова или лошадь. Таких, как правило, пристреливали на глазах у всего народа. Животному не объяснишь, что такое граница. А бдительные пограничники, как роботы, на следующий день старательно заделывали брешь в ограждении. «Граница должна
быть на замке». Даже для своих.
– Ну вот! Пригласили на свидание, а сами где-то бродят. Опаздываем.
Мишка очнулся от воспоминаний. Он обернулся. На одной из лавочек, той самой, сидела Марина. Голос её был звонким, даже громким. Мишаня оглянулся по сторонам, словно испугался этого голоса. В нём легко угадывался украинский акцент.
– А что вы так удивляетесь, как вас там, – девушка посмотрела на лавочку, где сидела. – Миша.
Он затоптался на месте.
– Да ты садись. В ногах правды нет. Я тут кое-что прочитала, – и она указала на вырезанное имя. – Не твоя работа, случайно?
Еще не отойдя от шока, он сел. Слава богу, появилась тема для беседы. Он и не заметил, как вокруг стало совсем темно. На небе появились звезды. Весна плавно превращалась в лето, и у неё было своё неповторимое лицо. Лицо женщины, с которой он сидел и, размахивая руками, как дирижер, о чем-то, не умолкая, говорил. У него развязался язык, и он красноречиво описывал годы своей школьной юности, украшая подробностями свои скитания по другим землям. Он и забыл, что перед ним человек, которого он видел второй раз в жизни. Наоборот. Ему было легко и свободно. Она понимала его шутки и так звонко смеялась, что ему становилось даже неловко за свой юмор. Когда говорила она, он без стеснения смотрел ей в глаза, пытаясь в темноте заглянуть в них глубже, и только успевал кивать головой и улыбаться, осознавая, как чувства постепенно наполняют его душу. С каждой минутой он все больше проникался к ней, обнаруживая приятные черты ее характера. Он все больше понимал Марину. И хотя темнота скрывала ее красивое лицо, стройную, ладную фигуру, он видел ее всю. А то, что было скрыто от него сумраком летней ночи и тенью деревьев, дорисовывало его воображение. Когда они случайно соприкасались, у него перехватывало дыхание. Сердце его стучало так сильно, что он боялся, что она услышит, и даже немного отодвигался. В один из моментов, когда она о чем-то рассказывала, ее гибкая рука застыла в воздухе. Он медленно подставил свою ладонь, дожидаясь, когда ее рука коснется его ладони. Все, что угодно, он мог ожидать… Но едва ощутимое касание, словно дождевая капля, проникло в него. Там оно превратилось в раскаленный металл и обожгло. Его захлестнуло, словно волна цунами навалилась на него всем весом. Ему вдруг стало жарко.
Уединившись отшельником в глухой тайге, он давно забыл, что такое женские руки. Он понял, что это именно то, чего ему так не хватало в жизни. Марина почувствовала его реакцию и отдернула кисть. Потом она вдруг встала. Наступила неловкая пауза. Он был на распутье, осознавая, что от него, от того, как он поступит, зависит дальнейшее. Или действовать смело и решительно или…
– Ну, мне пора, – сказала она и вздохнула. – Поздно уже. А провожать не надо, – проговорила она быстро, не давая ему возможности завладеть инициативой.
– Почему? Я провожу.
– Это лишнее. И так вся деревня завтра будет знать, – очень тихо, с грустью в голосе произнесла она. – Вообще ни к чему.
Он запутался в словах, не в силах выдавить и звука. Сказывалось долгое одиночество. Она уже почти исчезла в темноте, когда у него вдруг вырвалось, словно зов о помощи.
– Марина! – он впервые произнес это имя вслух, хотя оно все время вертелось в голове. Пошатываясь, словно пьяный, он пошел за ней, едва волоча ватные ноги. Она стояла среди лип в летнем светлом платье и смотрела куда-то в сторону. Он подошел к ней очень близко, так близко, что почувствовал запах её волос. Она молчала и, как ему показалось, не дышала. На какое-то мгновение ему показалось, что он слышит удары её сердца.
– Я, – голос его сорвался на сип. Он закашлялся. Потом он взял ее руку в свою огрубевшую ладонь и сжал ее. – Я должен был бы сказать тебе кое-что. Но… – Он замолчал на какое-то время, чтобы снова услышать ее сердце. Он стал считать удары про себя.
– Ты что делаешь? – спросила она очень тихо.
– А ты?
– Я слушаю, как бьется сердце.
– Чье?
– Твое.
– И ты его слышишь?
– Да.
– И я слышу.
Он мягко притянул девушку к себе и так же мягко обнял за плечи, касаясь щекой ее почти невесомых волос, от которых в голове все затянуло пеленой. Он уже стал терять почву под ногами, но устоял. Она медленно отстранилась от него, но руки не отняла.
– Не провожай меня, я прошу тебя. – Голос ее звучал мягко, словно рождался где-то далеко в глубине ее души.
– До свидания! – Он уже взял себя в руки. До него дошло, что он и так зашел слишком далеко и получил слишком много. Даже через край.
Она неслышно растаяла в темноте, оставив после себя запах своих волос и прикосновение руки. Он не стал возвращаться на берег, время было позднее. В дом тоже не хотелось идти, но как он ни сопротивлялся, ноги потащили его к стариковскому дому.
В темноте он наткнулся на коня, бродившего вдоль заборов. Конь за версту услышал шаги, но продолжал стоять, как и стоял, у изгороди, где росла сочная молодая трава. Мишка подошел к животному и потрепал за гриву. Конь фыркнул и потряс своей густой шевелюрой. Обнюхав его карманы, он прошелся мягкими губами по рукам и, ничего не найдя в них, побрел вдоль забора. Больше всего на свете Михаил любил коней. Он посмотрел на звёзды, и ему вдруг показалось, что в эту майскую ночь их как никогда много. Отыскав самую яркую звезду, он что-то прошептал про себя и, как пьяный, побрёл домой.
Пришедшее лето всегда кажется бесконечным, но как скоротечны его дни, счёт которым даже не замечаешь. Потому что жизнь наполняет их не только делами, но желаниями.
У него все горело в руках. В груди словно подожгли факел. Ни одной секунды он не мог прожить без мысли о Марине. Если бы не пчелы, бросать которых было никак нельзя, он сорвался бы и ушел пешком, среди ночи или в дождь. Ничто не удержало бы его. Пропадая среди сопок, он уже не мог просто сидеть или бродить. Всё, что бы он ни делал, к чему бы ни прикасались его руки, окрашивалось вдохновением, какого он не испытывал очень давно. Ее мягкое, светлое лицо незримо улыбалось ему, где бы он ни был. Сквозь пространство он неустанно говорил с ней, иногда забывая, что мир груб и очень жесток, а жизнь сурова и прозаична, и в ней надо выживать. Однажды, возвращаясь от солонца, он вышел прямо на оленуху. Матка спокойно стояла на краю лесной поляны и смотрела на него. Все было как в сказке. Михаил растерялся. Рядом безмятежно бегало создание, усеянное желтенькими пятнышками на темно-коричневой спине. Он впервые увидел своими глазами детеныша изюбра. Теленок так неловко передвигался на неимоверно длинных, до смешного толстых в суставах ногах, что, казалось, они надломятся и олененок упадет.
Он повернулся и пошел обратно, крепко вцепившись в цевье дробовика. В следующую секунду он обернулся и вскинул ружье, но поляна была уже пустой.
– Пусть так, – вздохнул он и пошел дальше.
Он понимал, что долго витать в облаках он не сможет и когда-нибудь снова упадет в грязную лужу, название которой жизнь. И там будет всё, и слёзы, и кровь, и ненависть. Мишка чаще стал бывать в Никольском, подолгу оставляя пасеку и пчел на самотек. Ему приходилось разрываться, но по-другому он уже не мог. За это время ничего существенного на пасеке не произошло, если не считать нового сруба для домика, который уже стоял под крышей. Пчелы трудились, трутни множились, матки сеяли расплод, успевая собирать компании и роем вылетать из гнезда.
Вася превратился в хорошего охотничьего кота. На правах хозяина пасеки он добросовестно охотился в прилегающей округе, завалив весь чердак птичьими перьями. А Куцый стал похож на настоящую собаку. Правда, хвост у него так и не вырос. Несколько раз из-за своей бестолковой головы он едва не попал под копыта проезжавших пастухов, а один раз чудом вывернулся из-под смертоносных клыков секача.
Наконец-то на пасеке появился конь. Мишкина давняя мечта сбылась. Конь был не очень высокий, но хорошо сбитый. Местных кровей молодой мерин гнедой масти. Он произвел на Мишку самое хорошее впечатление. Конь знал, что такое телега и сбруя, и давал себя седлать. Это было то, что нужно в тайге. А произошло всё само собой, и погнал бы Чапай совхозный табун другой дорогой, так и остался бы Мишка безлошадным.
Напоив незваных гостей чаем, Мишка вдруг ни с того ни с сего выкатил пузырь «сэма». У гостей развязался язык, и тогда он по-простому поведал главному коневоду свою проблему. Пока вели разговоры, с табуном управлялись никольские пацаны, свободные от занятий в школе, и за первой бутылкой появилась вторая. Чапай смотрел маленькими хитрыми глазками, уже затянувшимися легким дурманом, соображая, как обстряпать дельце повыгоднее. Конечно, в табуне были неучтенные кони, а тут такая возможность заработать.
– Ладно, Мишка, – наконец решился Чапай. – Ты мой тезка, отказать не могу. Да и коней ты любишь, знаю. Есть для тебя конёк добрый. За это гони мешок сахара. – Он махнул корявыми, покалеченными теми же конями руками и допил последнюю стопку, с трудом протолкнув её в рот. Его и без того сморщенное лицо перекосило, как старый забор. – Но уговор наш такой, не болтать. Он и телегу знает, и выстрела не боится. В общем, то, что надо.
Чапай махнул рукой, и через десять минут заузданный мерин с наглой мордой уже тряс гривой перед пьяными мужиками. Прямо с крыльца Чапай ловко, несмотря на пенсионный возраст, взлетел на неосёдланного коня и дал хороший аллюр вокруг пасеки.
Михаил был в восторге, но сам на коня не полез. В довесок он снабдил Чапая еще одной бутылкой самогонки, на что взамен выпросил временно седло. Потом он отвел коня к забору и привязал к столбу. Обнюхав одежду и руки своего нового хозяина, конь фыркнул и тут же навалил хорошую кучу, прямо у калитки. С этого момента общий язык был найден.
Имя долго не придумывалось. Но потом оно пришло само на ум: «Раз за мешок сахара, быть коню Мешком». А тому хоть бочкой, лишь бы овса давали, ну и дымокур делали.
Конь был чудной. Мог испугаться листка белой бумаги, если вчера его на месте не было. Ну, а чучел, которых Мишка наделал по дорогам и тропам вокруг пасеки, чтобы тот не ушел чего доброго, он боялся панически, доводя до слезного смеха хозяина. Любая, самая крутая, сопка была плевым делом для Мешка. Конь только кряхтел и от понуканий шел еще быстрее, попердывая в такт ходьбе. Спускаться не любил. Чувствуя себя полноправным членом коллектива, он всегда требовал своего, положенного ему как коню, и если к вечеру не было дымокура или овса в тазике, мог, как слон, зайти в дом и навалить там кучу прямо на пол.
После табуна пасека была раем для Мешка. У него даже была своя резиденция вокруг пасеки. Там он создал целый «город» с лёжками, чесалками и купалками; конь жил полноправной жизнью свободного гражданина, регулярно получая пайку овса или соленой горбушки. На точёк Мешок не заходил, зная, что там живут летающие, очень злые мухи. Они сразу научили его дорожному движению.
По вечерам Михаил садился на крылечке, щурясь от вечернего солнышка, и наслаждался жизнью. Гладил Васю, дразнил Куцего и потягивал чай из своей любимой кружки. Весь «народ» собирался в одно и то же время во дворе, забавляя своей наивностью хозяина. Из кустов вылезал Мешок. Подойдя к ручью, он подолгу пускал пузыри в чистой воде, словно цедил ее сквозь зубы. Потом долго смотрел куда-то вдаль, и вода капала с его бороды.
– Не пасека, а зоопарк, – смеялся Михаил и доставал положенные лакомства. Животных нельзя было обманывать, хотя само лакомство и было обманом, благодаря которому конь не уходил далеко от дома и давал зауздать себя всего за полтазика овса. Собака за корку хлеба бежала за человеком всю свою жизнь.
Даже Вася за рыбу мог исполнить любую арию «Кота в сапогах». Выходило, что весь мир, который он создал с таким трудом, держался на обмане. На святой лжи. Но, наверное, было и то, о чём Мишка не думал, и быть может, и не догадывался: о той любви, которую он испытывал к каждому из этих существ в отдельности, и в целом, и это и было той связующей нитью, которая крепче всего удерживала их рядом с ним. Среди всего этого он всё чаще думал о своей женщине, о которой уже не мог не думать. Было ли обманом его чувство к ней, и что было тем связующим звеном между ними; об этом он еще ничего не знал, полагая, что время все скорректирует. А в Никольском уже каждая собака знала об их отношениях, и он понимал, что нужно что-то предпринимать.
Куцый первый услышал завывание двигателя, вытянув по привычке вперед морду, ставшую еще наглее за лето. Его грозное рычание говорило о том, что он уже не щенок, и готов постоять не только за себя, это был хозяин этого места. Куций внимательно следил за приближающейся незнакомой машиной, своей вздыбленной холкой показывая, что готов встретить неприятеля во все клыки. Кто-то месил грязь на «шестьдесят шестом».