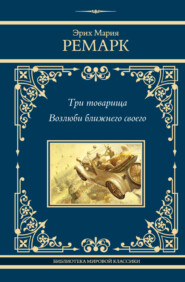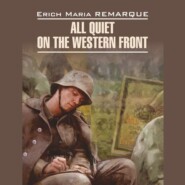По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это был единственный дорогой ресторан, который я знал. Александр Силвер угощал меня там вместе со своим братцем Арнольдом. Тамошний паштет из гусиной печенки незабываем.
– В «Вуазан» в таком мартышкином наряде меня вечером не пустят, – сказала Мария Фиола. – К тому же я уже поела. И шофер тоже. Спортивная фирма устроила небольшой прием. А как вы? Не найдется ли где-нибудь в городе новой порции божественного гуляша?
– Только остатки шоколадного торта. Ну, еще несколько маринованных огурчиков и пара ломтей черного хлеба. Весьма скудное меню.
– Маринованные огурцы очень даже кстати. И хлеб тоже. У меня там в машине бутылка водки.
Мойков встрепенулся.
– Русской?
Мария Фиола улыбнулась.
– Кажется. Пойдемте лучше в машину, Владимир Иванович! Сами и проверите. Только стаканчик побольше не забудьте.
Мы последовали за ней. Водка оказалась русской. Мария Фиола налила Мойкову полный стаканчик. Водка была ледяная – в «роллс-ройсе», оказывается, имелся даже небольшой встроенный холодильник. Мойков отпил глоток и благоговейно, словно утоляющий жажду сизарь, закатил глаза к небу.
– Вот когда сразу чувствуешь себя жалким самогонщиком! – вздохнул он.
– Отчаяние верного копииста перед лицом оригинала! – поддел я Мойкова. – Учись, Владимир! Главное не падать духом! Твоя зубровка, кстати, по меньшей мере не хуже.
– Даже лучше, – добавила Мария с нежностью. – В ней есть свой секрет: она утешает в минуты скорби. Ваше здоровье, Владимир Иванович!
Мы поехали вверх по Пятой авеню к Центральному парку. Было еще очень жарко. Из зоопарка доносился вечерний рык львов. Пруды в парке застыли в полной неподвижности, словно из свинца.
– Этот костюм ужасно меня стесняет, – пожаловалась Мария Фиола. С этими словами она опустила шторку на окне, отделявшем нас от шофера. Тут я заметил и на остальных окнах такие же шторки. Они превращали машину в уютную комнату, куда нельзя заглянуть с улицы. Мария раскрыла свою сумку. – Сейчас надену что-нибудь полегче. По счастью, я захватила старое платье.
Она сняла с себя жокейский жакет и короткие коричневые сапожки мягкой кожи. Потом принялась стягивать жокейские лосины. Сиденья в машине были широкие, удобные, и все равно ей не хватало места. Я мало чем мог ей помочь. Мне оставалось только покорно сидеть в сафьяновом полумраке салона, по которому зелеными отсветами скользили тени парка, слушать мерный рокот мотора и вдыхать аромат духов, распространявшийся вокруг по мере того, как Мария разоблачалась. Делала она это без малейшего смущения – наверно, рассудила, что на показе в фотостудии я уже все равно видел ее почти нагишом. Что же, это так, но тогда вокруг было много людей и света. А теперь мы совсем рядом, в полумраке и наедине.
– Какая вы загорелая, – заметил я.
Она кивнула.
– А я совсем белая и не бываю никогда. При малейшей возможности стараюсь полежать на солнышке. В Калифорнии, в Мексике, во Флориде. Всегда где-нибудь есть теплые края. А при нашей жизни нас то и дело посылают туда на съемки.
Голос ее звучал низко, чуть приглушенно. Я давно заметил, что в обнаженном виде женщины всегда говорят иначе, чем в одетом. Мария Фиола вытянула свои ослепительные ноги во всю длину и начала неспешно складывать жокейские лосины. Потом, порывшись в сумке, извлекла оттуда белое платье. Она была невероятно красива – очень тоненькая, но косточки нигде не выпирают. Французы называют такое сложение fausse maigre[33 - Обманчивая худоба (фр.).]. Я страстно желал Марию, но с места не сдвинулся. Гротескные сцены изнасилования в авто – это не для меня. К тому же и шофер рядом.
Мария открыла окно, оставив шторку закрытой. Освежающий воздух моря ворвался в салон, смешиваясь с ароматом духов. Она вдохнула его полной грудью.
– Еще минутку, – сказала она. – Потом я надену платье. Водка в холодильничке. И рюмки там же.
– Слишком жарко для водки, – сказал я. – Даже для русской.
Она раскрыла глаза.
– По-моему, там есть и шампанское в маленьких бутылках. Эта машина шикарно оборудована. Владелец как-то связан с внешней политикой. Отсюда и водка. В Вашингтоне есть русское посольство. Как-никак наши союзники. Можно мне маринованный огурчик?
Я развернул пергаментную бумагу и протянул ей пакетик. Бюстгальтера на ней не было; я успел заметить, что он ей и не нужен. На ней были только шелковые трусики. Кстати, от жары она ничуть не сомлела. Скорее от нее веяло прохладой, свежестью и свободой.
– Ах, как хорошо! – вздохнула она, беря огурец. – А теперь маленький глоточек водки. На мизинец, не больше.
Я нашел рюмки. Они были очень тонкого хрусталя. У владельца машины, судя по всему, недурной вкус.
– А вы разве не выпьете? – спросила Мария.
Я не мог вообразить себе мотивы, по которым владелец лимузина был бы счастлив тратить на меня свои запасы спиртного.
– Вы превратите меня в паразита, – заявил я. – В паразита поневоле.
Она засмеялась. У нее сейчас и смех был совсем не такой, как днем, в одежде.
– В таком случае почему бы вам не стать паразитом-добровольцем? Это куда приятнее.
– Тоже верно. – Я налил рюмку и себе. – Ваше здоровье!
– Ваше здоровье, Людвиг!
Мария Фиола легким движением скользнула в платье и сунула ноги в белые сандалии. Потом подняла шторки на окнах. Иссякающий вечерний свет ворвался в машину. Закат был в самом разгаре. Мы как раз проезжали музей Метрополитен. Красное зарево хлынуло в машину столь внезапно, что я вздрогнул. Музей, ослепительный закат – где я это уже видел? Я вспомнил тотчас же, просто осознавать не хотел. Темный силуэт за окном, нестерпимый багрянец закатного солнца, бездыханные тела на земле и скучливый голос с жестким саксонским прононсом: «Продолжайте! Следующего берем!»
Я слышал, как Мария что-то мне говорит, но не понимал ее. Воспоминания врезались в мозг с пронзительным визгом, будто зубья электропилы. В тот же миг все пронеслось передо мной снова. Я машинально схватил рюмку и залпом выпил. Мария Фиола опять что-то мне говорила. Я глядел на нее и кивал. Но по-прежнему не понимал ни слова. Застывшим взглядом я смотрел прямо перед собой. Мария была где-то далеко. Потом сделала какое-то движение рюмкой. Я поднял бутылку. Она покачала головой и засмеялась. И только тут ее голос снова разделился на слова.
– Не хотите прогуляться? – спрашивала она. – Тут ведь ваши места. Йорквилл.
– Да, – ответил я.
Я был рад выйти из машины. Мария что-то сказала шоферу. Я оглядывался по сторонам, стараясь дышать поглубже. Широкая улица, дома, небо, воздух.
– Где это мы? – спросил я.
– На Восемьдесят шестой улице. В Германии.
– В Германии?
– В Йорквилле. В немецком квартале. Вы что, никогда здесь не были?
– Нет.
– Хотите, поедем дальше?
Я покачал головой. Мария продолжала наблюдать за мной. Я не мог понять, зачем она притащила меня сюда, но и спросить остерегался. Не из благородных побуждений, это уж точно.
Улица, хоть и широкая, тотчас же напомнила мне омерзительный заштатный немецкий город средней руки. Кондитерские и булочные, колбасные лавки и пивные прилежно окаймляли мостовую.
– Вон кафе «Гайгер», – показала Мария. – Славится своими пирожными. Немцы ведь большие любители пирожных, верно?
– Да, – ответил я. – Пирожных и колбас. Так же, как итальянцы любители макарон. Нет ничего удобнее таких вот обобщений, – любезно добавил я. Не хотелось мне втягиваться в очередной глупый национальный спор. Не сейчас.
Мы молча шли по улицам. Чувство было тягостное. Мне казалось, будто я все воспринимаю в каком-то смещенном, сдвоенном виде. Вокруг то и дело слышалась немецкая речь, а я все равно всякий раз вздрагивал; то я видел просто наглухо закрытые ставни, а то мне мерещилось за ними недреманое око и ухо гестапо, и столь велики были эти перепады чувств, бросавшие меня от спокойствия и безопасности к страху и ненависти, что я казался себе неопытным канатоходцем, которого без страховки вытолкнули на канат, протянутый посреди улицы между всеми этими домами и немецкими вывесками. Каждая надпись по-немецки оглушала меня, как удар. Вообще-то надписи были совершенно безобидные, но только не для меня. В них мне тоже виделся двойной, мрачный смысл, как и в людях, что шли нам навстречу и так по-будничному выглядели. Но я-то знавал их другими.