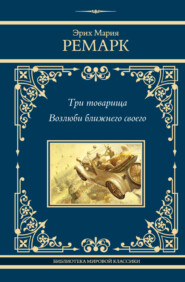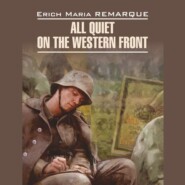По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хорошо, оставим это. Выпьем-ка лучше коньяку.
Он достал из отделения комода бутылку. Я взглянул на этикетку.
– Разве это не для особо важных клиентов? Вроде Купера?
– Теперь уже нет, – радостно объявил Блэк. – С тех пор, как Париж освобожден. Будем пить сами. Для Купера у нас есть «Реми Мартен». А мы будем попивать другой, лет на сорок постарше. – Он налил. – Скоро опять будем получать из Франции настоящий хороший коньяк. Если, конечно, немцы не успели все конфисковать. Как вы думаете, французы кое-что сумели припрятать?
– Думаю, да, – сказал я. – Немцы не слишком разбираются в коньяке.
– А в чем тогда они вообще разбираются?
– В войне. В работе. И в послушании.
– И на этом основании трубят о себе как о высшей расе господ?
– Да, – ответил я. – Потому что таковою не являются. Чтобы стать господствующей расой, одной только склонности к тирании мало. Тирания еще не означает авторитет.
Коньяк был мягок, как шелк. Его благоухание тотчас же распространилось по всей комнате.
– По случаю такого торжественного дня я запрошу с Купера на пять тысяч больше, – хорохорился Блэк. – Кончилось время пресмыкательства! Париж снова свободен! Еще месяца два-три, и опять можно будет делать закупки. А я там знаю парочку Моне, да и одного Сезанна… – Глаза его заблестели. – Это будет очень недорого. Цены в Европе вообще гораздо ниже здешних. Надо только первым поспеть. И лучше всего просто прихватить с собой чемоданчик с долларами. Наличные – куда более чувственная вещь, чем какой-то там чек; к тому же вид наличных расслабляет. Особенно французов. Как вы насчет второй рюмки?
– С удовольствием, – сказал я. – Что-то мне не верится, что так уж скоро можно будет путешествовать по Франции.
– Кто знает. Но крах может наступить в любую минуту.
Реджинальд Блэк продал второго Дега без всякого фейерверка вроде того, что мы устроили в прошлый раз. И без обещанной наценки в пять тысяч долларов за освобождение Парижа. Купер побил его шутя, заявив, что через приятелей уже завязал контакты с французскими антикварами.
Вероятно, это был блеф. Блэк не то чтобы на него купился – скорее продал просто потому, что надеялся вскоре получить из Парижа пополнение. К тому же он, наверное, полагал, что в ближайшее время цены, пусть ненадолго и слегка, но все же упадут.
– Есть еще все-таки Бог на свете! – радостно приветствовал меня Александр Силвер, когда я зашел к нему после обеда. – И можно снова в него верить. Париж свободен! Похоже, варвары не затопчут весь мир. По случаю такого торжественного дня мы закрываемся на два часа раньше и идем ужинать в «Вуазан». Пойдемте с нами, господин Зоммер! Как вы себя сейчас чувствуете? Как немец, наверное, плоховато, да? Зато как еврей – свободным человеком, верно?
– Как гражданин мира – еще свободней. – Я чуть не забыл, что я еврей по паспорту.
– Тогда пойдемте ужинать. Мой брат тоже будет. И даже шиксу свою приведет.
– Что?
– Он мне клятвенно пообещал, что на ней не женится! Разумеется, это в корне меняет дело. Не то чтобы в лучшую, но в более светскую сторону.
– И вы ему верите?
Александр Силвер на секунду опешил.
– Вы хотите сказать, что когда дело касается чувств, ничему верить нельзя? Наверное, вы правы. Однако опасность лучше не упускать из виду. Тогда легче держать ее под контролем. Верно?
– Верно, – ответил я.
– Так вы пойдете? На закуску возьмем паштет из гусиной печенки.
– Не искушайте меня понапрасну. Я сегодня не могу.
Силвер посмотрел на меня с удивлением.
– Вас, часом, не угораздило влюбиться, как моего Арнольда?
Я покачал головой.
– Просто у меня сегодня встреча.
– Надеюсь, не с господином Реджинальдом Блэком?
Я рассмеялся.
– Да нет же, господин Александр.
– Тогда хорошо. Между этими двумя полюсами – между бизнесом и любовью – вы в относительной безопасности.
Чем ближе к вечеру, тем сильнее я чувствовал в себе какую-то нежную преграду. Я старался как можно меньше думать о Марии Фиоле и заметил, что это мне удается легко, словно подсознательно я хочу вытеснить ее из моей жизни. На подходе к гостинице меня окликнул зеленщик и цветочник Эмилио, мой почти земляк из Каннобио.
– Господин Зоммер! Такой редкий случай! – Он держал в руках пучок белых лилий. – Белые лилии! Почти даром! Вы только взгляните!
Я покачал головой.
– Это цветы для покойников, Эмилио.
– Только не летом! Только в ноябре! В День всех святых! Весной это пасхальные цветы. А летом – знак чистоты и целомудрия. К тому же очень дешево!
Должно быть, Эмилио получил очередную крупную партию из какого-нибудь дома упокоения. У него имелись еще белые хризантемы и несколько белых орхидей. Он протянул мне одну из них, действительно очень красивую.
– С этим вы произведете неизгладимое впечатление как кавалер и донжуан. Кто еще в наши дни дарит орхидеи? Вы только взгляните! Они же как белые спящие бабочки!
Я ошарашенно глянул на него.
– Белизна, мерцающая в сумерках. Такая бывает еще только у гардений, – продолжал петь Эмилио.
– Хватит, Эмилио, – сказал я. – Иначе я не устою.
Эмилио был сегодня в ударе.
– Кому нужна наша стойкость! – воскликнул он, добавляя вторую орхидею к первой. – В слабости наша сила! Смотрите, какая красота, особенно для прекрасной дамы, с которой вы иногда гуляете. Ей очень пойдут орхидеи!
– Она сейчас в отъезде.
– Какая жалость! А кроме нее? Разве у вас нет замены? Сегодня такой день! Париж взят! Это надо отпраздновать!
«Цветами с похорон? – подумал я. – Оригинальная идея!»
– Возьмите одну просто для себя, – наседал Эмилио. – Орхидеи больше месяца стоят! За это время вся Франция будет наша!