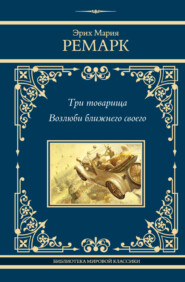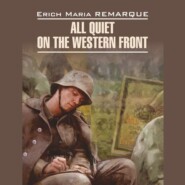По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что будет с вами? – тихо проговорил он. – Что будет с вами, если все это выплывет? Об этом вы подумали? Шантаж, ложные показания…
– Я прекрасно знаю, сколько за это полагается, – ответил Хирш. – Только мне, Блюменталь, это совершенно все равно. Мне на это плевать! Плевать я хотел на все это! На все, что вам, жалкому воришке-филателисту с видами на американское будущее, представляется таким важным. Мне это все безразлично, только вам, мокрица вы буржуазная, в жизни этого не понять! Мне это еще во Франции было безразлично! Неужели вы думаете, я бы иначе стал всем этим заниматься? Я не какой-нибудь там слюнявый гуманист! И мне не важно, что со мной потом будет! Так что если вы, Блюменталь, вздумаете что-нибудь против меня предпринять, я в суд не побегу. Я сам вас прикончу! Мне не впервой. Или вы до сих пор не усвоили, как мало в наши дни стоит жизнь человека? – Хирш сделал пренебрежительный жест. – Сами подумайте, о чем мы, в сущности, спорим? Для вас это даже не вопрос жизни. От вас всего лишь требуется заплатить часть тех денег, которые вы Боссе должны, больше ничего.
У Блюменталя опять сделалось такое лицо, будто он что-то жует.
– У меня нет дома таких денег, – выдавил он наконец.
– Можете дать мне чек.
Внезапно Блюменталь отпустил овчарку.
– Место, Харро!
Он открыл дверь. Собака исчезла. Блюменталь снова закрыл дверь.
– Наконец-то, – бросил Хирш.
– Чек я вам не дам, – сказал Блюменталь. Вид у него вдруг сделался страшно усталый. – Надеюсь, вы меня понимаете?
Я не верил своим глазам. Вот уж не думал, что он так быстро сломается. Видимо, Хирш был прав: вечный, даже без видимой причины, эмигрантский страх вкупе с чувством вины лишил Блюменталя уверенности. А соображал он, похоже, быстро и также быстро привык действовать, – если, конечно, не успел придумать еще какой-нибудь фортель.
– Тогда я приду завтра, – сказал Хирш.
– А бумаги?
– Я уничтожу их завтра же у вас на глазах.
– Вы получите деньги только в обмен на бумаги.
Хирш мотнул головой.
– Чтобы вы узнали, кто готов против вас свидетельствовать? Исключено.
– В таком случае кто мне докажет, что эти бумаги подлинные?
– Я, – невозмутимо ответил Хирш. – И вам придется поверить мне на слово. Мы не шантажисты. Просто немножко помогаем справедливости. Вы и сами это знаете.
Блюменталь опять что-то беззвучно прожевал.
– Хорошо, – сказал он наконец.
Хирш поднялся со своего золоченого стула.
– Завтра в это же время.
Блюменталь кивнул. На лице у него вдруг выступили капли пота.
– У меня болен сын, – прошептал он. – Единственный сын! А вы, вы приходите, в такую минуту – постыдились бы! – Он вдруг сорвался почти на крик. – Человек в отчаянье, а вы!..
– Боссе тоже в отчаянье, – спокойно осадил его Хирш. – Кроме того, он наверняка сможет порекомендовать наилучшего врача для вашего сына. Вы у него спросите.
Блюменталь ничего не ответил. Он все жевал и жевал, и на лице его запечатлелась странная смесь неподдельной ненависти и неподдельной боли. Я, впрочем, хорошо знал, что боль из-за утраты денег может выражаться ничуть не иначе, чем боль из-за куда более скорбной личной утраты. Однако в лице Блюменталя мне почудилось и кое-что еще. Казалось, он вдруг понял, что есть некая зловещая связь между его обманом и недугом его сына, – потому, наверное, он и уступил так быстро, а теперь сознание собственной слабости только усиливало его ненависть.
– Думаешь, у него правда сын болен? – спросил я Хирша, когда мы уже ехали вниз в роскошном лифте.
– Почему нет? Он же не прикрывался болезнью сына, чтобы меньше заплатить.
– Может, у него вообще нет сына?
– Ну, это вряд ли. Еврей не станет так шутить с собственной семьей.
Сопровождаемые сверканьем зеркал, мы сбегали по парадной лестнице.
– Зачем ты меня вообще брал? – спросил я. – Я же ни слова не сказал.
Хирш улыбнулся.
– По старой дружбе. По законам «Ланского катехизиса». Чтобы пополнить твое образование.
– Над моим образованием и так есть кому поработать, – буркнул я. – Начиная с Мойкова и кончая Силвером и Реджинальдом Блэком. И потом, то, что не все евреи ангелы, я и так давно знаю.
Хирш рассмеялся:
– Чего ты не знаешь, так это того, что человек никогда не меняется. Ты все еще веришь, будто несчастье изменяет человека в лучшую или худшую сторону. Роковое заблуждение! А взял я тебя, потому что ты похож на нациста – чтобы Блюменталя припугнуть.
Во влажную духоту летней нью-йоркской улицы мы нырнули, будто в нутро прачечной.
– Да кого в Америке этим припугнешь? – бросил я.
Хирш остановился.
– Дорогой мой Людвиг, – начал он. – Неужели ты все еще не понял, что мы живем в эпоху страха? Страха подлинного и мнимого? Страха перед жизнью, страха перед будущим, страха перед самим страхом? И что нам, эмигрантам, уже никогда от страха не избавиться, что бы там ни случилось? Или тебе не снятся сны?
– Почему же, бывает. А кому не снятся? Будто американцы не видят снов!
– У них совсем другие сны. А нам этот проклятый страх на всю жизнь в поджилки загнали. Днем с ним еще как-то можно совладать, но вот ночью? Какая там во сне сила воли! Где самоконтроль? – Хирш хмыкнул. – И Блюменталь тоже это знает. Поэтому и сломался так быстро. Поэтому, а еще потому, что в итоге-то он все равно в выигрыше. Марки, которые он зажал, вдвое дороже стоят. Потребуй я с него полную сумму, он сражался бы до последнего, невзирая даже на больного сына. Во всяком преступлении своя логика.
Легким, пружинистым шагом Хирш рассекал остекленелое варево послеполуденного зноя. Он снова напоминал себя в пору своего французского расцвета. Лицо сосредоточенное, даже как будто острее, чем обычно, и полное жизни; похоже, здесь, в Америке, он впервые чувствовал себя в своей стихии.
– Думаешь, Блюменталь завтра отдаст деньги?
Он кивнул.
– Отдаст обязательно. Не может он сейчас допустить, чтобы на него донесли.
– А у тебя разве есть что-нибудь, чтобы на него донести?
– Ровным счетом ничего. Кроме его страха. Но страха вполне достаточно. С какой стати ему из-за тысячи с чем-то там долларов рисковать американским гражданством? Все тот же старый лаонский блеф, Людвиг, только в новом облачении. Наряд не слишком элегантный, к тому же порядком извозюканный, но что делать, если без этой грязи правде никак не помочь?