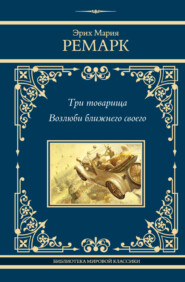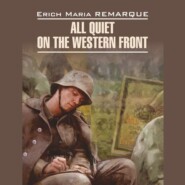По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глаза Марии на миг затуманились.
– Почему же ты мне об этом не сказал?
– В самом деле, почему?
Когда мы оказались в дверях, я ненароком слегка коснулся Марии. На ней действительно почти ничего не было. Я вдруг осознал, что у меня очень давно не было женщины. На выходе Феликс О’Брайен тоскливо подпирал стенку. У него был вид человека, сильно истомленного жаждой. Я немедленно вернулся в гостиничный холл, отнес водку в каморку Мойкова и запер ее в холодильнике. И оттуда увидел лицо Марии Фиолы, ждавшей меня уже на улице. Дверной проем обрамлял это лицо, как картину. В этот миг я вдруг понял, что почти счастлив.
– Быть грозе, – промямлил Феликс О’Брайен.
– А почему бы и нет, Феликс? – ответил я.
Когда мы вышли из ресторана, молнии сверкали уже вовсю. Порывы ветра гнали столбы пыли вперемешку с клочками бумаги.
– Феликс О’Брайен был прав, – сказал я. – Сейчас попробуем поймать такси.
– Лучше пойдем пешком, – предложила Мария. – В такси воняет потом и старыми ботинками.
– Но ведь будет дождь. А у тебя ни плаща, ни зонтика! Сейчас хлынет – будь здоров!
– Тем лучше. Я так и так собиралась сегодня вечером мыть голову.
– Но ты же промокнешь до нитки, Мария!
Она рассмеялась.
– У меня платье нейлоновое. Его даже гладить не надо. Пойдем пешком! В крайнем случае укроемся в подъезде. Такси сейчас все равно не поймать. Ну и ветер! Прямо с ног валит! Даже возбуждает!
Она, словно жеребенок, жадно втягивала ноздрями воздух, сопротивляясь напору ветра.
Мы продвигались вперед, держась поближе к домам. Всполохи молний погружали теплые желтые окна антикварных лавчонок в нестерпимо яркий, мертвенный свет; китайские божки и старинный мебельный хлам выхватывались из него неверными, почти пьяными тенями и, словно исхлестанные этим ослепительно белым бичом, тщетно пытались понять, на каком они свете. Теперь полыхало уже со всех сторон, даже по стенам небоскребов молнии змеились вверх-вниз, словно вылетев из-под земли, из хитросплетений проводов, кабелей и труб под коркой асфальта; они белыми фуриями носились над крышами домов и проемами улиц, преследуемые ударами грома, что повергали неугомонный шум огромного города в оцепенелую немоту. И тотчас же начался дождь, большие темные пятна упали на серый асфальт и обозначились на нем прежде, чем кожа ощутила первые капли.
Мария Фиола жадно подставляла лицо дождю. Губы ее были полураскрыты, веки сомкнуты.
– Держи меня крепче, – попросила она.
Непогода усиливалась. В один миг тротуары опустели, будто их вымело. Люди жались по подъездам, прятались в арках, тут и там, чертыхаясь и визжа, пробегали вдоль домов сгорбленные фигурки, мгновенно темнея и начиная мокро поблескивать в серебристом отсвете падающего стеной ливня, который превратил асфальт улиц в кипящую озерную гладь, иссеченную ударами незримых стрел и копий.
– Боже мой! – воскликнула вдруг Мария. – На тебе же новый костюм!
– Поздно! – усмехнулся я. – Да ничего ему не сделается. Он же не бумажный и не сахарный.
– Я думала только о себе! На мне-то совсем ничего. – Она приподняла платье до бедер, обнажив голые ноги. Дождь хлестал по ее сандалиям струями воды, словно пулеметными очередями с небес. – Но ты! Твой синий костюм! Еще даже не выкупленный!
– Поздно! – ответил я. – К тому же его можно высушить и выгладить. И потом, он выкуплен. Так что можем и дальше спорить со стихиями. Черт с ним, с костюмом! Пойдем выкупаемся в фонтане перед отелем «Плаза»!
Она со смехом затащила меня в подворотню.
– Спасем хотя бы подкладку и конский волос! Их потом как следует не прогладишь. Гроз в жизни много, а костюмов мало.
Я поцеловал ее мокрое лицо. Оказалось, мы стоим в закутке меж двух витрин. В одной, подрагивая под вспышками молний, красовались корсеты для пожилых, полных дам; во второй, где размещался зоомагазин, были выставлены аквариумы – целая стена аквариумов, светящихся своим зеленоватым, матовым светом, в котором плавали пестрые рыбки. В детстве я сам держал и разводил рыбок и сейчас некоторых вспомнил – общительных, шустрых гамбузий, гупий, посверкивающих, как драгоценные камни, и королев аквариумного царства – мерцающих черно-серебристыми полосатыми боками скалярий, которые величавыми экзотическими парусниками парили в водорослевых лесах. Было так странно столь внезапно вновь узреть перед собой волшебный, лучезарный кусочек детства, в полной тишине выплывший мне навстречу из-за всех мыслимых и немыслимых горизонтов, из полыхания молний, совершенно для них неуязвимый, каким-то чудом оставшийся точно таким же, как тогда, – нисколько не постаревший, не перемазанный кровью, целый и невредимый. Я сжимал Марию в объятиях, ощущал тепло ее тела, и в то же время какая-то часть меня была где-то далеко, склонялась над заброшенным родником, который давно уже пересох и перестал журчать, и вслушивалась в собственное прошлое, давно ставшее мне чужим и потому захватывающим вдвойне. Счастливые дни возле речки, в лесу, на берегу небольшого озерка, над гладью которого в остановившемся, трепещущем полете замирали стрекозы, вечера в садах, над оградами которых пенным цветом вскипали сирени, – все это пронеслось в памяти мгновенным немым фильмом, пока я вглядывался в золотисто-зеленые аквариумные вселенные, казавшиеся мне воплощением мира и покоя, хотя в каждой из них царили те же законы пожирания и смертоубийства, что и в другом мире, том, который я теперь слишком хорошо знаю.
– Что бы ты сказал, если бы у меня был такой же зад? – донесся до меня голос Марии Фиолы.
Я обернулся. Она изучала витрину корсетного магазина. На черной примерочной болванке, какими пользуются портные, был выставлен обтянутый розовыми шелками панцирь – в самый раз для какой-нибудь валькирии.
– Это было бы уморительно, – заметил я. – Но тебе корсет никогда и не понадобится. Благослови Боже твою обманчивую худобу! Ты самая пленительная из всех худышек, каких мне доводилось встречать! Благословен будет каждый грамм твоего гибкого тела!
– Значит, ради тебя мне не нужно соблюдать диету?
– Никогда!
– Всю жизнь об этом мечтала! К черту салатики, к черту вечный голод манекенщицы!
Дождь перестал. Падали лишь редкие отдельные капли. Я скользнул по аквариумам прощальным взглядом.
– Посмотри-ка, обезьянки! – воскликнула Мария, указывая в глубь магазина. Там, в большой клетке, куда поместился даже ствол дерева, скакали две растревоженные грозой обезьянки с длинными хвостами.
– Вот они – настоящие эмигранты, – сказала Мария. – Даже в клетке! Вас до такого еще не довели.
– Думаешь? – спросил я.
Она вскинула на меня испуганные глаза.
– В сущности, я ведь почти ничего о тебе не знаю, – вымолвила она. – Но и не хочу ничего знать. И ты тоже ничего обо мне не знаешь. Пусть так и останется. Какое нам дело до нашего прошлого!
– Никакого! – ответил я. – Решительно никакого, Мария!
Она еще раз оглянулась на корсет Брунгильды.
– Как же быстро пролетает жизнь! Неужели я тоже когда-нибудь буду втискиваться в такую вот кольчугу и отправляться на заседания дамского клуба?
– Нет.
– Значит, у нас нет упорядоченного, надежного будущего?
– Никоим образом.
– Может, у нас вообще нет никакого будущего?
– Этого я не знаю.
– Разве это не грустно?
– Нет. Кто думает о будущем, тот не умеет распорядиться настоящим.
– Тогда хорошо.
И она прижалась ко мне так, что я ощутил ее всю, от коленей до плеч, словно держу в объятиях наяду. Ее мокрое платье было как купальный костюм. Волосы свисали мокрыми прядями, лицо покрывала бледность, но глаза горели. Мария казалась утомленной, сдержанной и одновременно необузданной, почти дикой. От нее пахло ливнем, вином и немножечко чесноком.