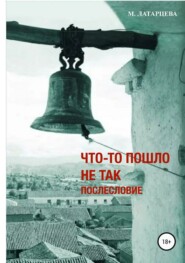По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что-то пошло не так
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Брысь, шкодник! Смотри, как распоясался! Хозяин! Всё места ему мало! Разлёгся, что тебе барин! Устал, поди, за день, наработался… Пройти невозможно… Аа-а, правда не нравится? Глаза свои бесстыжие прячешь?..
Наталья незлобиво ругалась с котом. Толстый и ленивый домашний любимец по кличке Пузо уже давно вёл себя нагло и бесцеремонно, а с недавних пор вообще повадился засыпать прямо посреди комнаты, так что все вынуждены были обходить его раздавшуюся десятикилограммовую тушу стороной. На просьбы и увещевания Пузо абсолютно не реагировал, в лучшем случае едва заметно подергивал рыжими усами и небрежно фыркал. Богдан с интересом наблюдал, как Наталья терпеливо, но тщетно, пытается призвать кота к порядку, так как уже давно подозревал, что животина отлично понимает, что делает, и выбирает место для отдыха не случайно, а совершенно сознательно, единственно из-за своей кошачьей вредности.
С улыбкой слушая монотонный монолог жены, он ещё раз перечитал бумаги, на всякий случай царапнул ногтем рельефную печать, зачем-то даже понюхал её, а потом вообразил себе, что не он предполагаемый владелец дома, а Пузо, представил, как кот выселяет нынешних жильцов из «своего» дома, а сам, как собака на сене, каждый день живет в новой квартире. Картинка получилась настолько яркой и сочной, что он не выдержал и громко рассмеялся.
– Ты чего смеёшься? – заглядывая в дверь, подозрительно спросила Наталья. Она машинально провела влажной тряпкой по полке книжного шкафа и уставилась на него в ожидании пояснения.
– Да так, анекдот вспомнил, смешной, потом расскажу.
– Потом, так потом, ладно уж, – рассеянно согласилась жена и ушла на кухню.
А он аккуратно собрал документы, сложил их в конверт, конверт – в папку, и задумался, что же с ними делать? Как ни странно, выбор был невелик: сию же минуту выбросить папку в мусорное ведро и забыть навсегда, что там написано, или же сохранить документы на память, чтобы потом как-нибудь на досуге перечитать ещё раз, уже основательнее, не спеша, мало ли что?
Маленько поразмыслив, он осмотрительно пристроил бумаги в самом дальнем углу самой верхней полки шкафа, подальше от любопытных глаз, в глубине души все ещё надеясь, что ситуация с наследством – чья-то не очень удачная шутка. Вслед за папкой на верхнюю полку отправился альбом с фотографиями незнакомой строгой красавицы в модной шляпке с вуалью.
– Наташа, я тут документы просмотрел, те, что из бабушкиного дома… Нет там ничего интересного, так, оплаченные счета за свет и воду да старые мамины письма.
Он включил телевизор, прошелся по программам, но мысли его непрестанно возвращались к содержанию гербовых листов в невзрачной тоненькой папочке. Положить конец этим смутным размышлениям сумел только звонок из Крыма.
Жена, успевшая начистить квартиру до зеркального блеска, от неожиданности вздрогнула. Суетясь и нервничая, она сбила входящий вызов, дрожащими руками, чуть не уронив при этом аппарат, сама набрала номер подруги и перешла на громкую связь.
Из телефона послышалось: «Наташенька, милая, у нас праздник! Что? Не слышу… Это музыка! Алло, алло, Наташенька, ты куда пропала? Дорогая, я тебя не слышу, говори громче… Мы сейчас с Петей возле участка… Какого? Как какого – избирательного… Ты не представляешь, что здесь творится! Люди идут, идут, идут!.. Целый день идут! Голосовать!.. И старые, и молодые! Все!.. Идут, кто как может!.. Просто сейчас, на наших глазах, двое стариков под руки третью женщину повели, такую же старушку, как сами! Еле ползут, сердечные, а на лицах – улыбка!.. Наташенька, родненькая моя, у нас праздник, а я плачу, дурочка такая! Представляешь, плачу! От радости! Свершилось! Мы – в России! Мы – дома! Наконец дома!..»
Лена снова и снова рассказывала о референдуме, о голосовании, смеялась и плакала одновременно, прерываясь только, чтобы сообщить о концертах, о вечернем салюте, о празднике там, в далеком Крыму, который всего за один день отдалился от Украины на целую вечность, а на Украине смеялась и плакала Наталья, радуясь за подругу. Только Богдан не знал, что ему делать.
Проведение референдума на полуострове он изначально считал предательством, и неподдельная радость Елены по поводу возвращения Крыма в Россию была ударом под самый дых.
«Чего людям не хватало? Солнце, горы, море!.. Целый год на курорте, безвыездно! Живи и радуйся! Нет, ищут-таки приключений на свою… на свою голову, не могут спокойно жить… С жиру бесятся…» У него не укладывалось в голове, что крымчане сделали это.
«А власти? Где наши власти были? А части военные? А флот? Украинский флот, в Севастополе?.. Где он был? Что он делал?» Больше телевизор включать не хотелось – в самом потаённом уголке сердца ещё оставалась надежда, что скоро все образуется, рассосётся, останется по-прежнему, как было.
…Он брел по обочине, обдуваемый горячим степным ветром, а навстречу ему неслись автобусы, машины, грузовики, и казалось, что сама жизнь проносится мимо него, и даже мимо его жизни.
Что-то пошло не так. Сейчас, через полгода после референдума, многое смотрелось по-другому, со стороны, будто глазами объективного свидетеля, который присягнул на «Библии» говорить правду и только правду, но эта правда совсем не радовала.
После отделения Крыма произошел разрыв. Нельзя сказать, что было это внезапным или неожиданным. Нет, все об этом знали, давно знали… Знали, но молчали, чтобы не накликать невзначай.
Крым всегда был отдельной территорией. Даже не полуостровом, а самым настоящим островом – со своими законами, своими порядками, своим менталитетом, обычаями… Был особенным – не российским, но и не украинским, каким-то бесхозным, неприкаянным и… забытым. Как ребенок, потерянный родителями на вокзале. Не брошенный, нет, а именно потерянный, одинокий среди многоликого, многорукого и многоногого чужого мира.
Тогда, в воскресенье, Украина молчала, казалось, почти не дышала… Ждала. Выдох произошел вместе с салютом, с салютом на уже не родной, иноземной территории.
Получилось с Крымом, как с любой частью тела – рукой, там, или ногой, вещь вроде в хозяйстве нужная, даже необходимая, но пока не беспокоит, никто не замечает. Так и Крым – жил себе, ничего не просил, никого не трогал, никому не мешал, не жаловался, и вдруг ни с того, ни с сего – заболел. Ему бы терапию, капельницу, глюкозу какую-нибудь, физраствор, а его, вместо помощи – рраз! – и ампутировали! Своими руками, без анестезии, отсекли, и только тогда поняли, что сотворили, поняли, что это – безвозвратно, бесповоротно, и что нельзя уже ни приклеить его, ни пришить.
«Сегодня ушел Крым!» Прав оказался Николай, как никогда, прав, и правда его сейчас, через полгода после случившегося, лежала сверху, как на ладони…
Присутствие воды он уловил еще до её появления в поле зрения. Учуял носом, как собака. Так и шел, ориентируясь на запах, доверившись только своему животному инстинкту.
Узкая грунтовая дорога, укатанная транспортом до блеска, уткнулась прямо в воду. Несколько прудов прямоугольной формы, по-хозяйски обсаженных редкой в сухой степи вербой, на удивление заботливо ухоженных, принадлежали, по всей видимости, рыбному кооперативу или дачному товариществу.
Предвкушая наслаждение, он медленно, не спеша, разделся, сложил возле бортика аккуратной стопочкой одежду и зашел в прохладную влагу. Это был рай на земле! Мягкая, ласковая вода обволакивала каждую частичку измученного тела, доставая, казалось, даже до мозга. Он лениво шевелил руками, поддерживая равновесие на поверхности пруда, а вокруг него было непозволительно тихо, так тихо, будто нигде в мире не было ни войны, ни беды…
– Опа-на! И что это за явление Христа народу? Неужели сепарик пожаловал? Собственной персоной, лично! Вот уж повезло, так повезло! А я-то думаю, чего это мне с самого утра левая рука чешется? К прибыли, однако, к прибыли! Ты кто, мой хороший – разведчик, лазутчик или сразу шпиён? Колись! Быстро! А тут что у нас, дорогуша? Счас мы посмотрим, что ты здесь прячешь!
Высокий худой мужчина в полузащитной форме с автоматом в руках, разбросав ногой Богданову одежду, пытался таким же образом извлечь содержимое пакета. После нескольких неудачных попыток его старания, наконец, увенчались успехом, и на свет божий появилось три сверточка.
Поддев носком пыльного ботинка один из них, незнакомец вопросительно посмотрел на Богдана:
– Надеюсь, не бомба? Чего застыл, как с креста снятый? Вылезай, открывай, показывай! Живо!
Сам он отошел на безопасное расстояние, выставив перед собой, для пущей верности, автомат.
Богдан медленно, стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать вооруженного человека, выбрался из пруда. Так же неторопливо взял указанный пакет и стал неспешно разворачивать его. Вскоре из-под бумаги появилась вышитая крестиком салфетка, в которую был завернут домашний хлеб.
– Ты кто? Документы! – человек с оружием недоверчиво рассматривал краюху и выглядел при этом по-детски обманутым, подозревая, что все это – неспроста, что его, вне всякого сомнения, специально подставили, вокруг пальца, как сопливого мальчишку, обвели. Он даже оглянулся по сторонам в надежде увидеть разыгравших его.
– Документы, я сказал! – не увидев больше никого, взревел он. – Быстро!
Богдан молча показал на отброшенную в сторону рубаху. С такого же молчаливого согласия вынул бумаги, протянул военному. Тот, раз за разом слюнявя пальцы, по несколько раз придирчиво перелистал каждую страницу удостоверения личности и предписания, выискивая криминал.
– Одевайся, дурак. Ты-то хоть понимаешь, что я тебя мог… мог того… прихлопнуть сгоряча? Видишь оружие в руках? Тебе объяснить, как оно стреляет?
Богдан продолжал молчать, чем вызвал очередное недовольство незнакомца.
– Ты чего молчишь? Язык проглотил или немым уродился? Отвечай! Немой? Говори!
– За тобою скажешь…
– Цевин, что там у тебя? Сепара поймал? Сейчас допрос произведем! Давай его сюда!
Со стороны дороги к прудам направлялось ещё двое военных. Мужчина выразительно посмотрел на Богдана и, как ни в чем не бывало, спокойно выдал:
– Да нет! Знакомый приехал. Весточку от матери привёз.
– Неужто? Повезло тебе, Андрюха! Ну, общайтесь тогда, а мы скупнемся – и в часть. Минут через двадцать повеселимся! Дружку твоему концерт покажем!..
Через двадцать минут в батальоне начались, по словам командира, «плановые учебные стрельбы по враждебной территории». Стрельбам предшествовала тщательная подготовка – сначала наводчик, возбужденно пританцовывая и весело припевая, довольно долго искал в визирь прицела подходящий ориентир. Потом все бойцы по очереди обсуждали цель, вносили свои поправки, прогнозировали результат. Дали посмотреть и Богдану.
От увиденного у него зашевелились волосы на голове – целью обстрела должна была стать двухэтажная школа в поселке. Рядом – жилые дома, в них – гражданское население, да и в самой школе люди могут быть – дети, учителя, ведь учебный год не за горами. Он попытался сказать об этом человеку по фамилии Цевин, но в это время прозвучал выстрел. Бурные восторги после него означали, что снаряд попал в цель.
По всему телу Богдана поползли ледяные ручейки, казалось, вспотели даже ладони и глаза: «Что они делают? Что творят? Там же люди… Там – дети!..»
Ему казалось, что он кричит, громко, на весь мир кричит, но голоса своего не слышит. Потом, как во сне, перед ним появились глубокие воронки в земле, горящие дома, протянутые из огня руки, и над всем этим – невыносимый смрад, и трупы, трупы, трупы… Горы трупов – взрослые вперемешку с детьми, с оторванными руками, ногами, обожженные, утыканные осколками снарядов, залитые кровью… Горы трупов… Однажды он уже видел это, но где? Когда? «Господи, на все твоя воля…»
– А землячок твой, Цевин, того… хлипким оказался… Отрубился маленько, Цевин, твой землячок… Из интеллигентиков, небось, слабачок, пороху не нюхал… Ну, ничего, через денек-другой пооботрется, пообвыкнется, что к чему поймёт, одним словом, разберётся. Здесь и не такие бывали…
После слов заряжающего стало понятно, что новичок принят в батальон, а шефство над ним отдали Цевину. Тот сразу же увел своего подопечного в расположение.
– Ты это… не паникуй, к этому привыкнуть трудно, я понимаю. Вообще-то я и сам не знаю, что лучше – привыкать или не привыкать… Ты кем на гражданке работал? Экономистом? Тем более! Специальность, скажу тебе, практически женская… Ну, я хотел сказать, не мужская… То есть не совсем… Эт… – не закончив прежней мысли, Цевин перескочил на другую тему.