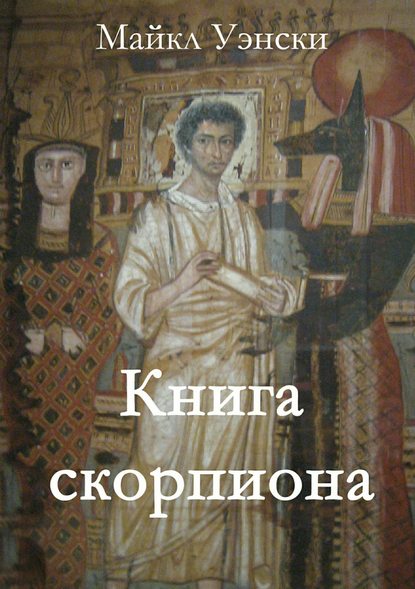По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книга скорпиона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицо расплывалось. Маттафии чудилось, что лицо учителя преобразилось и свет нисходит на него откуда-то сверху, с высокого неба. Маттафия был счастлив. Он видел чудо. Он хотел поделиться увиденным, но губы и язык не слушались.
Иешуа руками обхватил голову Маттафии и тот замолчал. На губах у него застыла улыбка.
Маркус, не торопясь, прошёл к двери. По пути ткнул мечом в сторону Маттафии:
– Первая кровь.
Иешуа молчал.
Маркус уехал.
Маттафия спал.
Масалья беззвучно плакала.
Камень угрюмо ворчал.
Хозяин дома забавлялся со своей новой наложницей.
Кафарнаум отдыхал.
Иеросолима ждала.
Бог, как обычно, спал, а наш мир служил ему подушкой, на которой отпечатывается каждый раз его новый лик. Сегодня он улыбался.
Метатель
Сегодня, чистя гранат, он порезал палец и тот теперь ныл. Метатель вспомнил свою кровь, смешавшуюся с соком граната, и усмехнулся – не различишь.
Усмешка вышла безрадостная, как и все вести, полученные в последние дни. Маркус не смог уговорить Чужака. Тот возомнил себя богом. Говорит, что этот сброд любит его. Они любят блеск, а не свет. Глупец. Думает, что совершает благо.
Что ж пусть идёт своей дорогой. Пусть…
Глаза его затянуты белесой пеленой, но зрение скоро вернётся к нему. Скоро…
Метатель поднял веки. Потолок спальни зыбко мерцал голубым. Лёгкий виссоновый полог колебался от ветерка. Метатель сел на ложе. Рядом спала жена. Её обнажённое плечо мягко отражало лунный свет.
Тишина замораживала воздух, предметы и людей. Романец поёжился. Тишина была живая, затягивала в себя. Мужчина закрыл глаза и погрузился в состояние пророческого полусна.
Он ощутил себя, стоящим перед невидимой границей. Там, за чертой настоящего, было нечто такое, что не давало покоя. Нечто уродливое и бесформенное. Какие-то тени, обугленные ветви деревьев. Да, деревья с черными изломанными руками-ветками. И ещё. Блеск доспехов. Солдаты. Они стоят полукругом, обмениваются шутками. Кто-то дико хохочет. Перед солдатами ещё одно дерево. Какое-то странное. Нет, это не дерево. Это столб с перекладиной. И там, на нём… Что это? На нём растут цветы. Разные. Больше голубых и красных. Солдаты смеются. Действительно смешно. На вершине столба табличка. Глаза начинает жечь, как будто глядишь на солнце. Надписи не разобрать. Потом всё меркнет.
Метатель очнулся, провёл ладонью по лицу, снимая наваждение. Почему цветы и солдаты? Сны, сны… Всё бред… Нужно рассказать Собирателю.
Мужчина встал с ложа, бесшумно оделся и вышел из спальни. Кровник, вернувшись из Кафарнаума, отправился к сюда к нему и тут же в Иродовом дворце остался ночевать. Метатель шагал к его комнате.
Коридоры дворца были пустынны и темны. Снаружи дворца еле слышно доносились разговоры стражи, собачье повизгивание – на ночь псов выпускали, и они наслаждались свободой.
Мысли в голове Метателя путались. Он – префект Йудеи и Хранитель. Он – глава фамилии[110 - Фамилия (лат. familia) – семья, дом, как общность всех домочадцев, включая слуг.] и бездетный отец. Маркус расстался со своей шлюхой. Безумство, длившееся столько лет кончилось. У него теперь сын от дочери какого-то грека… Вот и сам Маркус. Шагает навстречу. А я стою и улыбаюсь, как юнец, увидевший возлюбленную. Мы чувствуем друг друга, Маркус.
Надо поговорить о Чужаке. Не злись, Маркус. Он вправе выбирать свой путь сам. Где он? Твои люди, пусть будут рядом с ним.
Маркус, мне нужно поговорить с Чужаком. Я решил, Маркус. Я не могу по-другому. Что, что, Маркус? Погромче.
«Царь света сидит на троне из венцов убитых лилий…»
Я помню, Маркус. Это гимн для мёртвых.
«…и брезжит свет из убитых цветов.
Зачем мне солнце, если они умирают?
Зачем смех, если губы в крови?
Зачем разум, если голова пробита?
Ветер найди меня.
Ветер поцелуй меня.
Ветер унеси меня.
Ветер…»
Это всего лишь гимн. Это…
Хлойи
Она проснулась рано утром, набросила тёплую накидку и тихо прошагала к спящему в той же комнате Маркусу. Мальчик безмятежно спал в обнимку с небольшим кинжальчиком – подарком отца. Женщина, едва касаясь, провела рукой по его плечу, накрытому одеялом. Потом вышла из комнаты. Она уже почти привыкла к дому Кровника. Здесь ей даже нравилось. Здесь было спокойно и безопасно. Дом был недалеко от Антониевой башни и казарм гарнизона. Йудейские бунтовщики сюда не совались.
В доме жила она с сыном и старый раб-прислужник. Кровник заходил сюда лишь изредка. Где он был, и чем занимался, Хлойи не знала. Они с ним почти не разговаривали. Она знала, что Кровник купил своей йудейке дом. Наверное, ночевал там. Хлойи стало неприятно. Но он поселил их здесь, они ни в чём не нуждаются, он заботится о них. Может он…
Сплюнь и смажь – оборвала себя женщина. Такому как Кровник не нужна семья.
– Хозяйка, ты встаёшь очень рано, – раздался голос за спиной Хлойи.
Та обернулась и увидела старика атриенсиса[111 - Смотритель дома.]. Был он худ, уродлив и беловолос. У него почти не было зубов, и его койне был едва понятен.
– Женщина не должна вставать рано. Это портит её красоту.
– Почему? – рассеяно спросила Хлойи.
– По утрам она должна лежать на спине и делать вот так, – старик сально ухмыльнулся и сделал вид, что намазывает себе соски сладкими румянами, как делали все местные проститутки.
Хлойи шутки не поняла и под её неприязненным взглядом трёхзубая ухмылка прислужника увяла.
«Странный раб, – подумала женщина, выходя прогуляться в небольшой садик во дворе. – В Грэкии его давно бы убили. Наверное, Кровнику нравится всё странное и необычное».
Узкая, выложенная камнями тропинка вывела к афедрону[112 - Отхожее место.]. В боковую стенку деревянного сооружения бала вделана каменная могильная плита. На ней была надпись на латыни «Лежу здесь. Живу там». От старика раба Хлойи знала, что здесь похоронен сирийский наёмник с непроизносимым варварским именем. Кровник казнил его за подстрекательство к мятежу и оскорбление принцепса и римских властей. Помнится, белоголовый раб с ужимками, едва сдерживая смех, рассказывал Хлойи, как Кровник, из великого уважения к сирийцу, велел бросить его сожжённые останки в выгребную яму во дворе своего дома. Потом поставил плиту.