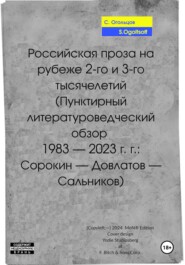По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(…когда-то отец мой пытался втолковать мне, что процесс жизни идёт по спирали. Я не смог его понять, несмотря на указательный палец, который для наглядности чертил широкие круги по воздуху…
Судьба Ивана Алексеевича могла бы послужить аргументом в пользу такой теории. В своей жизни, мы движемся по кругу одних и тех же событий, однако они, в силу спиралевидного продвижения жизни, обрастают новыми гранями, перекрученными деталями, и мы не распознаём их повторения, двигаясь мимо и – дальше…
Не знаю проводил ли мой тесть когда-либо какие-то параллели между семечками, которые он выиграл в стометровке, и его должностью на Нежинском ХлебоКомбинате. В обоих случаях, это распоряжение зерновыми. Хотя к чему ему такая Геометрия?.)
Перед тем как забивать косяк за столиком обременённым трюмо-ветераном, я прежде всего выключал транзисторный радиоприёмник. Редкие зёрнышки, спадавшие на стол из высушенных головок конопли, сгребались и ссыпались в задний карман джинсов. Рязанско-крестьянская прослойка в моих генах, которая противилась безотлагательному избавлению от них, оказалась ненужным атавизмом, потому что посев произведённый по весне в Графском парке не дал всходов…
На четвёртом году обучения я стал почти примерным студентом, моя посещаемость возросла невыразимо. Я не мог оставаться в квартире, когда Ира выходила в институт… На лекциях я погружался в бесконечную историю Иосифа и его Братьев. Она становилась глубже и зримее как вроде бы барельеф неспешного потока, в кильватере косяка выкуренного на перемене в туалете.
После невыносимо долгого трезвона заключительного звонка, я нисходил по боковой лестнице на первый этаж, заполненный верхней одеждой студентов на колышках вдоль стен, и помогал Ире одеть её пальто. В неумолчной галдени одевающихся студентов, я отыскивал белую пушинку на своём пальто и снимал её, только после этого осмотра я продевал руки в рукава, застёгивался и мы шли домой.
Этот белый клочок арахноидной пряжи возникал на ткани моего пальто всякий раз после косяка в очаге высшего образования. Да, вместо овчинного полушубка я носил демисезонное пальто верблюжьей, но почему-то тёмно-серой шерсти, купленное у Алёши Очерета, когда он ещё учился на своём последнем курсе. Ни с кем не делясь открытым мною феноменом возникающей пушинки, я про себя обозначил его термином «Бог шельму метит»… Иногда, для экспериментальной проверки выводов, я воздерживался от косяка в учебном заведении и в таком случае пушинка не появлялась. Поэтому, прежде чем одеть пальто, я проверял его на наличие белой метки. Она ни разу не подвела…
Моя любовь к Ире всё углублялась. Иногда она просила не глазеть на неё так упорно в присутствии публики, но я всё ещё надеялся остановить утекающий миг.
"Он смотрел на неё, как смотрит пёс на хрустальную вазу,
а она на него – взглядом хрустальной вазы на пса…"
Иногда мы посещали Общагу чинно расписать «пулю» в 72-й. Из-за того, что Ира в положении, мы за преферансом не курили, только Двойка изредка, с видом муштрованного кадетским корпусом корнета, испрашивал её позволения закурить и дымил на зависть мне и Славику… А Ира с отсутствующим видом сидела у окна и мелко крошила ножницами взятую у меня беломорину…
Она не делала тайны из своей беременности и ещё на втором месяце заказала у Лялькиной матери элегантный широкий сарафан из коричневой ткани.
Однажды, уже по весне, она вышла из Общаги первой, пока я задержался с Двойкой в вестибюле. Когда я вышел на крыльцо, Ира стояла возле угла здания и пререкалась со студентом БиоФака, свесившимся через подоконник на втором этаже. Неспособный понять смысл сарафана, борзо?й второкурсник пытался тупо подцепить незнакомку и её отповедь его не образумила. Я потребовал от Дантесиного отродья извинений даме и получил наглый отказ.
Пока я подымался к нему в комнату, ко мне примкнул Двойка, но там оказались ещё трое. Последовала неразборчивая стычка с переменным успехом, к жильцам постоянно прибегало подкрепление из соседних комнат. Вспоминается мелькнувший эпизод, когда я стоял на чьей-то койке, а кто-то из противников, стоя на полу, упорно подставлял свою тупую рожу под пинок моей туфли, но я воздержался – слишком уж явно он этого добивался.
Вскоре я был повержен на пол и завален телами трёх противоборцев, пытавшихся обездвижить меня своим общим весом, но слышал, что где-то в углу Двойка всё ещё отбивается от превосходящих сил. И вдруг дверь распахнулась – на пороге встала Ира с короткой деревянной линейкой в руках и пронзительным воплем: —«Я их всех перережу!»
Меня настолько поразила абсурдность ситуации – пиратский боевой клич Иры, эта незнакомая линейка в руке, и ты у неё в животе, что я расхохотался. Все присутствующие последовали моему примеру.
Невозможно всерьёз драться с тем, с кем только что смеялся заодно. Мне помогли подняться и мы ушли…
~ ~ ~
Что можно противопоставить необратимости мгновения? Отсутствие ответа заставило менять приоритеты. Охрана стала непосредственной задачей. Оберегать её в галдящей толкучке одевающихся студентов, противодействовать укусам ближайших подруг с их змеино-раздвоенными языками: —«Приветик! У, какая ты сегодня уродина!» Развеивать страхи перед предстоящим – фельдшерица Кердун в роддоме такая грубая, все роженицы, уже потом, на неё жалуются. И охранять против совсем уж непонятного, но отрицательного Резус-фактора внутри неё самой… Защищать от всего мира, что готовится нанести удар в любой момент, когда не ждёшь. Поэтому я затаился и неотвязно следил за ним. Постоянно начеку. Такая позиция обрывала связь с Общагой, контакт с однокурсниками, отчуждала от института.
Только с Жомниром я продолжал общаться. Он стал научным руководителем моей курсовой работы The Means of Irony in 'The Judgment Seat' Story by W. S. Maugham. Кроме того, он был нужен мне как средство отгородить какое-то место для нас с Ирой в этом чуждом мире. Жомнир обещал «засватать» мои переводы в каком-то издательстве в Киеве, где у него есть связи. Но потребуется сборник из 20–25 рассказов на Украинском. Поэтому я продолжал приходить к нему домой, а он в шутку повторял, что его жена, Мария Антоновна, в меня влюбилась.
Они жили вдвоём в трёхкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажки вдоль улицы Шевченко, потому что их дети уже выросли и отделились. Сыновья – в Россию, дочка – к мужу, но тоже в Нежине. Жомнирам хватало двух комнат, третью Александр Васильевич превратил в архивный кабинет: стол, стул и – стеллажи до потолка из мощных досок, заваленные кипами картонных папок, книг, журналов, стопками бумаг, и вся эта неразбериха выплёскивалась и громоздилась даже на подоконнике окна без всяких штор, единственного на всю комнату… Мне это нравилось.
И мне нравился рассказ Иры о бесчеловечности Жомнира… Тогда его семья жила ещё в полном составе в пятиэтажке родителей Иры и во время квартирного ремонта он разделил площадь пола по числу членов семьи, покрасил квадратуру своей доли, опустил кисть в банку с водой, пожелал остальной семье трудовых успехов и – умыл руки…
Его жена, Мария Антоновна, бесшумная женщина с седыми до чистой белизны волосами, подарила мне книжку стихов Марины Цветаевой и заставила полюбить её стихи. Прежде я думал, что поэтессы годятся лишь кружева плести из рифм. Марина не такая, она умеет, когда нужно, изнасиловать слово.
Я живо вспомнил её стихи в электричке из Конотопа, потому что продолжал туда ездить, хотя не каждую неделю, как прежде. Из чувства долга перед Леночкой. Она всегда была хорошим ребёнком и я даже любил её, по-своему. Просто никогда не умел тетешкать и сюсюкать, больше чем минут на десять меня не хватает… В тамбуре вагона я курнул, а потом, неожиданно для самого себя, начал прощупывать отворот своего верблюжьего пальто. Даже не знаю зачем. И – точно: в самом уголке таилась длинная портновская игла, вонзённая между слоями ткани. Как же я намучился пока её вытащил! Всё повторилось и с отворотом напротив.
(…воткнута игла точь-в-точь как в той ранней поэме Цветаевой…)
Я выбросил иглы в прорези над стеклом в двери вагона грохотавшего в сторону Нежина. Откуда они взялись? Воткнула ревнивая мать как в той поэме? Или куплены вместе с пальто от Алёши? И (это уж вообще непостижимо!) что заставило меня их найти?
(…так много ещё вопросов, на которые мне не найти ответа. Никогда…)
Мои визиты к Жомнирам тревожили тёщу. Всего более её тревожило – как бы меня не угостили там варёной колбасой. Она явно опасалась, что такая колбаса позволяет изменять человека, превращать его в зомби, как в фильме Матрица, снятом в Голливуде лет тридцать спустя. Она не знала, что я робот нового поколения, которое зомбируется и форматируется посредством печатного текста. А ничего, Гаина Михайловна, что Жомнир скормил мне книгу Гессе, у которого один абзац может тянуться полторы страницы?
(…возможность воздействия текста на окружающую действительность через зомбированного меня не однажды удостоверялась личным опытом.
Простой пример. В туалете квартиры родителей жены, сталкиваюсь с журналом За Рулём, нарезан в удобном для гигиенических нужд формате. Сидя на унитазе, ознакамливаюсь с обрезками статьи про большегрузные Советские автомобили. Использую источник информации по назначению, выхожу в институт, сворачиваю за угол пятиэтажки и – оба-на! Улицу Красных Партизан пересечь невозможно, по ней бурлит, ревёт и валит поток БЕЛАЗов и КАМАЗов. Прут лавой, сплошняком, табунами!
Ну и конечно, позже мне пытались пудрить мозги насчёт ремонтных работ на Московской трассе и объезд через Нежин. (Хотя яни о чёмне спрашивал).
Так это они ждали со своим ремонтом, пока я найду время прочесть ту нарезку из За Рулём?.)
Мои отношения с Гаиной Михайловной пришли в полное соответствие с традиционной схемой отношений «тёща—зять», просто с поправкой на интеллигентность соотносящихся. Поначалу всё шло душа в душу, но через неделю или около того, она вдруг начала застёгивать широкий отложной ворот своего халата большой булавкой. Халат для домашней носки с глубоким вырезом, но я этого даже и не замечал, пока не появилась та булавка.
Преображение прикида лишило меня блаженного неведения, потому что между булавкой и первой пуговицей под вырезом образовалась прореха, а любая щель, есессна, притягивает взгляд. Я не стал интересоваться у её предыдущего зятя (Тониного мужа Ивана, из соседней спальни) наблюдал ли он подобный симптом до моего появления в квартире родителей его жены и с какой регулярностью. Просто мне пришлось держать свой взгляд на привязи. Хотя на что там смотреть? Женщина давно привяла…
Однажды нам довелось остаться наедине во всей квартире, лишь она и я. За окном темнело. Она стояла заложив руки за спину опёртую на зеркало в дверце шкафа и рассказывала мне, сидящему на раздвижной диван-кровати, сложенной по случаю всё ещё дневного времени, как её увозили в Германию в товарном вагоне. Её и много других молодых девушек. Стуча железом колёс о стыки рельсов, вагон пошатывал, всколыхивал свой живой груз. Страшила неизвестность—что же будет? – и очень хотелось пить. Некоторые девушки плакали…
Поезд остановился в поле. Охранники распахнули двери вагонов и что-то кричали, но тогда она не знала ещё Немецкий. В недалёкой ложбине протекал ручей, охранники жестами показали, что можно пройти к воде.
Они радостно бросились к ручью, пили, ополаскивали свои лица. Вдруг раздались громкие крики и застрочил автомат – одна из девушек пыталась убежать и её убили. Обратно к вагонам всех провели мимо убитой. Она лежала на спине с открытыми глазами и была такая красивая и молодая… Сумрак сгустился в комнате. Гаина Михайловна стояла, прижав ладони к стеклу туманно темневшего за её спиной зеркала, опустив голову над убитой красавицей. Сейчас она была там и чувствовала себя той молодой опечаленной Гаиной.
Мне жалко было убитую и жалко Гаину Михайловну пережившую весь этот ужас, я хотел что-то сказать или сделать, только не знал что. Поэтому я поднялся с дивана и молча щёлкнул выключателем, чтобы сделать хоть что-нибудь. Свет люстры вмиг разбил всё вдребезги. Вместо испуганной девушки Гаины, у шкафа стояла пожилая женщина с нелепой прорехой под воротником и непрощающим, колючим взглядом из под пряди крашеных волос. Кто просил меня разбивать чары? Так я оказался традиционно неприемлемым зятем…
Лично я никогда не испытывал особого антагонизма к своей тёще, но не могу не отметить, что у бабушки твоей чувства порою брали верх над разумом… Она была стойкой и непримиримой Антисемиткой. Должно быть, годы поведённые в зажиточной Немецкой семье сказались на её отношении ко всем этим Евреям. Люди втягиваются разделять чувства окружающих. Бывший декан Английского отделения Антонюк (который потерял должность в ходе своих партизанских рейдов с карандашом против фамилий Близнюка и Гуревича в листах ватмана на стене) остался героем в её глазах. Её возмущало, что вокруг одни Евреи и возмущало безразличие её мужа к её возмущению по поводу эскалации Сионизма.
Сидит с газетой перед своим увесистым носом и, когда уже забудешь о чём ему говорила, очнётся, чтобы сказать: —«А? Ну да…». И опять опять зарылся носом в газету. Опора в жизни, называется!
В своей непримиримой борьбе против Сионизма, она даже ходила на приём к новоназначенному ректору – открыть его глаза на вопиющее размножение колен Израилевых по всем факультетам.
(…до смешного доходит – пойти к ректору НГПИ, Одесскому Еврею Арвату, чтобы пожаловаться на засилье нежинских Евреев в институте Нежина!
“ Eine l?cherlich Wasserkunst!.”
Или как там выразился Рильке?..)
Но жизнь не стояла на месте, живот у Иры рос, по нему уже начали ходить волны от твоих коленей и пяток. Довольно крепкие были пятки, мой нос это помнит. И пришёл день, когда Ира испуганно сказала мне позвать её маму… Гаина Михайловна вошла в спальню.
– Что это, мама?
На безупречно гладкой статуэтной коже, внизу, под совсем уже большим животом наметились неровные бороздки
– Растяжки.
– Это пройдёт после родов?
Мать Иры хмуро опустила голову и промолчала…