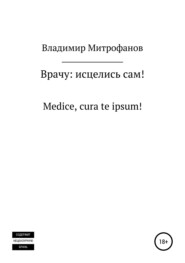По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Телохранитель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ховрин пошел на кухню ставить чайник, достал из холодильника малосольного лосося. Нарезал рыбу, сделал огромные бутерброды, как обычно делают мужчины. Когда вернулся с тарелкой в комнату, Юрик сидел на диване с пакетом чипсов и хрустел ими. Чипсы он принес с собой.
– Хватит жрать всякое говно! – сунул руку в его пакет Ховрин. И сам тоже не удержался – захрустел. Юрик разлил виски. Выпив рюмку, поморщился:
– Как сказал Оскар Уайльд, «Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению». Хе-хе!
Ховрин рюмку только слегка пригубил. Пить ему совсем не хотелось.
Юрик выпил еще и теперь яростно жевал бутерброд, откусывая большими кусками и заглатывая, почти не жуя. Слюна подтекала из угла его рта. Он с хлюпаньем всосал ее. Наконец справился с бутербродом, рыгнул, потом вдруг сказал неизвестно к чему:
– Один врач писал в своем блоге, что у него почти все пациенты с поносами и запорами пережили развод родителей, когда им было восемь-десять лет. Это наносит очень сильный урон детской психике. И еще часто болезнь кишечника возникает у детей, которых в детстве чморят… Поэтому детей никогда нельзя чморить.
Он говорил об этом почти восторженно, потрясая руками. Его это почему-то взволновало, хотя его-то в школе вроде не чморили да и родители у него, слава Богу, не разводились.
Посидели с часок. Потом он уехал к себе в Купчино уже довольно пьяненький, но через час, как договорились, отзвонился, что добрался до дома нормально. Какая-то там у него уже музыка гремела в комнате.
Другой школьный друг – Валерик Морозов – проживал в так называемом «илитном» районе, родители купили ему там студию – скорее всего, чтобы самим пожить в покое. Он жил там с девушкой из своей группы. Ездил оттуда в институт на своей машине. Машину с небольшим пробегом ему купили сразу, как только исполнилось восемнадцать. Дорожные пробки были теперь неотъемлемой частью его жизни. Он жил в них, слушал музыку, аудиокниги, учил английский. Встречались с ним очень редко: у него была теперь своя тусовка. Общих интересов не было, разговаривать было особо не о чем, обычно вспоминали разные смешные случаи из школьной жизни да спрашивали, кто кого видел из одноклассников. К тому же оба не выпивали: Валерик обычно был за рулем, а Ховрин готовился к соревнованиям. С Нового Года Ховрин его и вовсе не видел.
Утро понедельника выдалось ясное, безветренное, и Ховрин решил пробежаться в парке, продышаться, почистить кровь от остатков алкоголя. Все основные фанаты здорового образа жизни уже были там. Там был мужик-«палочник» – любитель скандинавской ходьбы с лыжными палками, шагавший с прямой спиной и в наушниках всегда в одно и то же время – минута в минуту. Еще был грубый бородатый старик – «сморкун» со своей собакой – пуделем такого же мерзкого и склочного нрава. Пудель всегда подбегал к Ховрину с таким видом, что тут же готов и укусить. Ховрин, однако, был готов треснуть его по морде. Пудель это чувствовал и в последний момент отскакивал назад, делая вид, что ничего такого и не хотел. Дед же, хозяин пуделя, постоянно сморкался или отхаркивался прямо себе под ноги – наверняка был когда-то заядным курильщиком. Была еще пара собачниц: одна по прозвищу «Кубышка» (так называл ее Ховрин) с черным терьером и еще – некая Зоя, тоже собачница и тоже нехудая, но несколько меньшая по толщине, чем «Кубышка». У Зои была белая собака типа лайки – «хвост крючком» и очень пушистая. Все эти люди собирались в одно и то же время – в шесть утра.
День провел в спортзале. Потом поехал встречать Катю.
Ровно в шестнадцать тридцать Ховрин стоял у входа в школу. Катя задерживалась. Прислала сообщение: «Скоро буду». С полчаса Ховрин маялся на крыльце школы, прислонившись к перилам, играл с телефоном. Какой-то парнишка, довольно противного вида вился рядом, чуть ли не в лицо заглядывал:
– Эй, братан: дай-ка мобилу позвонить!
– Да отъебись ты! Нашел лоха!
Тот, однако, продолжал тереться, зудеть: дай да дай.
Ховрин знал, как с такими разговаривать, потому сказал прямо, как и было положено в подобной ситуации:
– Хули тебе от меня надо? Съеби нахуй отсюда! Заебал уже…
– А ты кто такой? Девок наших пасешь? – взвился пацаненок.
Тут уже Ховрин удивился: гнус какой-то, а права качает.
– А тебя это ебет? Слушай-ка, уябывай-ка отсюда!
– Чё-ё-о? – у парнишки настроение явно испортилось. – Чё ты тут залупаешься?
Тут уже и Ховрин разозлился:
– Ты что, самый борзой, что ли? Давай один на один, если не ссышь? Или ссышь?
Приятели этого забияки шумно дышали за спиной. Бодрый вид Ховрина им очень не нравился и беспокоил.
– Ну, чё, идем, или дальше будешь пиздеть? – продолжил Ховрин. Он странным образом чувствовал себя гораздо старше и опытнее и почему-то никакой особой угрозы от этих пацанов не ощущал: просто мелкая шантрапа. Не сравнить с те двумя «толстяками». «Толстяки» были частью некой системы, понятно, сами по себе они – ерунда, но за ними была организация, а это всегда серьезно.
Гнус заколебался, однако терять лицо перед друзьями не стал. Пошли. Ховрин был готов к удару сзади и к другим неожиданностям, но их не случилось.
Зашли за угол. Там лежала старая куча говна и явно только что помочились на стену. Мерзкое, вонючее место – как раз для подобных разборок. Гнус пытался что-то говорить, напирать, даже встал в некое подобие боевой стойки, попытался ударить ногой, но Ховрин, сделав шаг навстречу, блокировал бедро, прижал Гнуса к стене, ударил коленом в живот, легко дал по морде, – в полсилы, но все равно расквасив нос и разбив губы. Приставале было очень больно. Слезы непроизвольно брызнули из его глаз. Дальше биться он уже не мог и готов был разрыдаться. Ховрин обернулся к ближайшему его дружку, который явно хотел встрять, напасть сзади, но пока трусил:
– Может, тоже хочешь?
Тот замялся. Биться с Ховриным один на один он не рискнул. И никто больше не хотел. Ховрин буквально ощутил уважение с себе, он мог с ними подружиться с ними тут же, если бы захотел. Главный самец в стаде показал свою силу.
Тогда он, сплюнув, отошел и стал ждать Катю уже в отдалении от входа. Происшествие, впрочем, несколько обеспокоило его в плане того, чтобы эти человеческие гнусы Кате никак не навредили. Вдруг толкнут, просто обругают, кинут грязью. Надо было все-таки как-то договориваться миром.
Шныряли какие-то типы в вязаных шапках. Ховрин их не особенно опасался. В это время он сам играл гопника. Однако какой-то все-таки всунулся:
– Дай закурить!
– Не курю! Бросил! Базарят, что вредно. На пачке даже написано: вызывает рак!
– У меня брат только что из тюряги вышел! – прошипел мальчишка, злобно сверкая глазенками.
– И что, он за тебя придет разбираться? Неужели? Еще хочет сесть? – ухмыльнулся Ховрин. – Не смеши меня. Шел бы ты нахер!
Мальчишка, ссутулясь, ушел, загребая носами ботинок.
Ховрин же вернулся на крыльцо. Тут Катя вышла из дверей школы, кивнула на прощание какой-то девушке, с любопытством оглядевшей Ховрина снизу вверх. Выглядела эта девушка довольно грустно, как Аленушка на картине Васнецова.
– Кто это? – спросил он Катю.
– Это? Это Настя.
– А что это она такая печальная?
– Личные проблемы. Их у нее до фига. После развода она осталась с отцом, а тот через год снова женился.
– И что?
Тут Катя сделала страшные глаза.
– И что? Она у них теперь Золушка-два. У той новой свои родные дети маленькие, так она Настю заставляет работать по дому, как служанку. Сука! Настя от них убегать хочет.
– А что отец?
– Та сука ночью на Настю отцу наговаривает. Он в нее член засунет, а она ему и нашепчет. Известно, мужик во время секса размякает, и под этим делом это самый колдовской гипноз.
– Ты-то откуда знаешь?
– Всем известно.
– Может, она колдунья, ведьма?
– Думаешь, попытается подругу твою отравить? А может и уже травит? Чего-то она какая-то бледная.