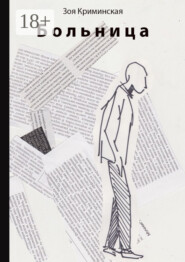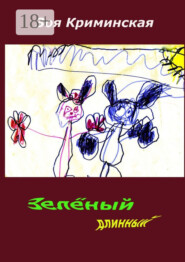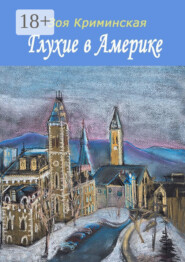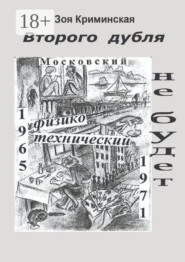По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Не разбавляя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выпивала бабка два раза в году: на Новый год, и на девятое мая.
Люба молчала. Она выросла, как и мать, без отца, и то обстоятельство, что войны не было, не помогло матери устроить свою личную жизнь.
Так и жили они втроем, три женщины, и если бабка мужественно несла крест своей незамужней жизни, то Мария страдала, считала себя неудачницей, и постепенно в сознании Любы возникло ощущение, что надо в жизни ухватить мужчину. Любого, а иначе жизнь пустая, и жить не стоит.
Маша родила дочь поздно, уже в тридцать, роды были тяжелые, Маша от них не оправилась, долгие годы болела, чахла и через два года после смерти бабки умерла, оставив четырнадцатилетнюю Машу сиротой, на попечении тетки, младшей сестры бабушки.
Тетка была занудная сквалыга, и Люба скучала по умершим. Она полюбила ходить на кладбище и подолгу сидеть на могиле мамы и бабушки, сидеть часами, бездумно, расслаблено.
А в шестнадцать лет, когда подруга Томка уговорила ее пойти с ней и компанией в поход, Люба, не видевшая любви и ласки после того, как осталась сиротой, влюбилась в Славку пламенно, очертя голову, ни о чем не задумываясь. И когда поняла, что не нужна ему, не нужна никому в этом мире, ей захотелось умереть.
Теперь она много общалась с Ниной, которая тоже, как и ее мать Маша, растила ребенка одна, но никогда Люба не слышала от Нины сетований по этому поводу.
Выяснилось, что Люба сама выгнала мужа, он любил погулять, выпить, пьяный был агрессивен, и Нина быстренько развелась с ним.
– Лучше никакого мужа, чем плохой, – сказала она Любе, и Люба была потрясена этим новым неожиданным для нее взглядом на жизнь.
Оказывается, можно не унывать в таком положении. Нина работала медсестрой в Боткинской больнице, уходила рано, возвращалась поздно, работу свою любила, ухажеров, которые появлялись, отшивала, не хотела сыну отчима. И Люба прониклась новым миропониманием, и ее попытка суицида в шестнадцать лет, сейчас, когда ей было девятнадцать, казалась ей непроходимой глупостью.
На Славу она давно уже не смотрела обожающими глазами, судила о нем трезво, видела, что он эгоистичен, вспыльчив и, главное, он ее не любит так, как ей мечталось, чтобы ее любили.
В девятнадцать лет Люба закончила учебу в техникуме, и устроилась на работу секретарем. Взяли ее легко и положили сразу пятьсот долларов, что в середине девяностых годов было хорошим заработком. Финансовая независимость придала Любе уважение к самой себе. Она не мечтала о любви, как раньше, а думала, что надо устроить свою жизнь, иметь семью, детей.
Тонечка, любимая подружка, вышла замуж и собиралась родить, а она, Люба, жила в чужой семье на птичьих правах, и Слава и слышать ничего не хотел ни о свадьбе, ни тем более, о ребенке.
– Пока не уйдешь от Славки, другого не найдешь, – считала Тоня, и Люба соглашалась с ней, но по инерции продолжала жить со Славкой, хотя давно не знала, кто больше привязывает ее здесь: Нина или Слава.
Только после очередной ссоры, когда Слава без причины приревновал ее, Люба решила действовать. Она сняла комнату у старушки, и однажды вечером собрала свои вещички в чемодан. Славка, как всегда в последнее время, был неизвестно где, возможно, попивал пивко с товарищами, и дома была одна Нина. Она давно заметила охлаждение между сыном и невесткой, но не вмешивалась, считала, что не ее это дело.
Появление Любы на пороге ее комнаты с чемоданом, было, тем не менее, для нее неожиданностью.
– Поживу отдельно, – сказала Люба. – Посмотрим, что будет.
Нина встряхнула руками и заплакала, обнимая Любу за худые плечи. Они стояли в узком коридорчике небольшой квартиры панельного дома и плакали, две женщины, прожившие бок о бок три длинных года.
Потом Люба ушла, а Нина долго стояла на балконе, смотрела, как Люба идет, наклонившись вперед, и тащит за собой чемодан на колесиках, всё ее достояние в этом мире. Идет, чтобы жить одна на чужой, снятой квартире, навсегда расставшись с иллюзиями насчет ее сына. Вот ее фигурка скрылась за углом, стало пусто. Нина знала, что Люба не вернется. Молодая девочка, красивая, найдет себе другого, который будет ее любить, не то, что Слава.
И Слава приведет другую женщину в дом, и придется ей, Нине, опять привыкать, притираться, не вмешиваться, может быть, сносить грубости. А так хорошо, уютно было с Любочкой.
А Люба тащила чемодан и думала, что если выбирать мужа по свекрови, то лучше Нины она никого бы и не хотела, и что с ней Любе было лучше, чем с двоюродной бабкой, и спасибо ей, что она прожила эти годы в тепле и уюте и отогрелась возле Нины, да вот только Славка ее не любит, и нет надежды, что полюбит, а значит, она правильно делает, что уходит.
Подошла маршрутка, Люба влезла в нее, пристроила чемодан, захлопнула дверцу…
Люба давно ушла, а Нина всё стояла на балконе, вспоминая свою неудавшуюся жизнь, бывшего мужа, порушенные мечты о личном счастье.
Вечерело. Нужно было идти готовить ужин для Славки. Он, как когда-то его отец, любил вкусно покушать.
Укус
Фойе больницы наполнялось будничным синеватым светом люминесцентных ламп, а меня била дрожь, тряслись руки и стучали зубы, хотя еще оставалась надежда, что мы успели, не опоздали: сейчас Люсе введут противоядие, и жизнь продлится в ее худом тощем теле.
Надежда чуть теплилась, эфемерная, крохотная, а свернувшаяся клубком в моем желудке холодная змея, регулярно хватающая острыми зубами за сердце, была так же злобно правдоподобна, как и та, маленькая змейка, которая четыре часа назад укусила Люсю за ногу.
Нога эта посиневшая, опухшая, страшно свисала в проход с носилок, когда мы ехали на скорой, и я придерживала Люсю, гладила ее пепельные рассыпанные волосы, поправляла болтающуюся голову.
Сознание она потеряла два часа назад, жар поднимался, губы растрескались, и ничего я в жизни своей не хотела сейчас, как только того, чтобы эта чужая мне девочка осталась жива, снова мешала мне проводить занятия, прыгала на одной ноге, и смеялась тихим, рассыпающимся странным смехом: смеется и как будто одновременно задыхается.
Всего четыре часа назад была другая жизнь, недостижимо далекая и желанно обыденная: было ясное летнее, безмятежное, редкое для наших северных широт августовское утро.
Три девчонки, Маша, Лена и Люся, стояли передо мной, в шортах и кедах и просительно заглядывали в глаза: отпрашивались пойти перед обедом погулять в ближайший лесок. Я уже второе лето работала вожатой в пионерском лагере, и одну из девочек, Люсю, знала еще по прошлому лету.
Лагерь был расположен в сосновом бору на невысоком холме. С одной стороны, в километре, протекала речка, с другой было поле, а перед полем вдоль забора метров на пятьсот был чистый солнечный лесок, куда мы часто ходили до обеда, пели песни, учили стихи, проводили беседы.
Пространство было ограничено, потеряться было никак невозможно двенадцатилетним девочкам, и я иногда, не очень охотно отпускала их туда одних: позагорать, пошушукаться вдали от воспитательских глаз. Это было нарушением, но привычным, принятым нарушением: в заборе была дыра, и если не разрешать по их просьбе, ребята уходили с территории тайком.
Я отпустила их до 12 часов, и ничего, никакого предчувствия, никакого ощущения опасности у меня не было. Девочки ушли, а я с оставшимися детьми раскрашивала плакаты к предстоящему празднику Нептуна. Плакаты писали я и Миша, мальчик из старшего отряда, а остальные были на подхвате: расчерчивали листы, размечали тексты.
За этим кропотливым нудным занятием прошло минут сорок.
Неожиданно дверь пионерской распахнулась и на пороге появилась Маша, растрепавшаяся, с серым лицом и испуганными глазами.
– Настя, – закричала она мне, – Настя, скорее, Люсю змея укусила.
Я вскочила и опрокинула на плакат баночку красной гуаши. Гуашь растеклась по белой бумаге полыхающим пятном, и оно прыгало кровавым туманом перед моими глазами всё время, пока мы бежали, пролезали через дыру в заборе, обжигая ноги крапивой, росшей вокруг лагеря, и затем спешили по мягкому мху мимо молодых сосенок на привычную поляну.
Время остановилось для меня. Окружающее отодвинулось на большое расстояние, и казалось мне, что всё происходящее сон, ясный отчетливый, но сон.
Сознание включилось, только когда я увидела бледное, как полотно лицо Люси, которую вела под руку Лена. Люся смотрела напряженно, губа была закушена, и слезы катились из глаз, а лицо Лены, тоже плачущей, было искажено страхом.
– Больно, – прошептала Люся, и мешком повисла на моей руке.
Я схватила ее на руки, она была невероятно тяжелой.
– Настя, ты же ее не донесешь, давай мы поможем, – хором закричали девочки, но я мчалась, задыхаясь к воротам лагеря, и наш сторож Степа, увидев меня выбегающую из леса, выскочил навстречу, подхватил Надю и донес до медпункта.
Медсестра Ира пила чай с шоколадкой, и губы у нее были измазаны шоколадом, и я смотрела на эти шоколадные губы и думала: … Как будто ничего не случилось…
С того момента, как я увидела бледную Люся, такие вещи, как чай, шоколад, еда и вся обычная жизнь утонули, исчезли, в мире оставалась лишь змея, укусившая Люся, и сама Люся со своей болью, бледным лицом и устремленным внутрь себя испуганным, обреченным взглядом.
Увидев нас, и услышав, что случилась, Ира уставилась на меня в страхе и сомнении.
– Немедленно надо везти ее в больницу, Настя, у меня нет противоядия.
Лагерь расположен в лесу, в котором встречаются змеи, а в медпункте не было противоядия.
Ира уложила Люсю на диван и уколола ей супрастин и обезболивающее.
– Всё же супрастин снизит реакцию на яд, – сказала она.