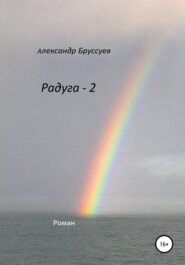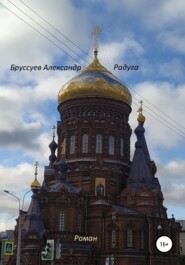По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тойво – значит надежда. Красный шиш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Листок оказался почетной грамотой со всевозможными печатями и подписями, в том числе и закорючкой самого Семена Михайловича. Мол, почетный солдат этот Юкка Петров, хоть и «карелец».
– А где же твой Юкка теперь? – возвращая бумагу, скорее, ради приличия, спросил командир.
– Так в лесу он с парнями. Спят, поди, сейчас – ночь на дворе, – ответила старуха и тоже зевнула. – Как финны показались, так они и утекли один за другим. Лахтарит-то что? Они карелов очень не любят. Еще с прошлой войны помним. Вот и ушли парни, чтобы их не спалили заживо, либо в Финляндию в казаки[53 - Опять в карельском смысле: kazakku – батрак.] не угнали.
«А кто же карелов-то любит?» – вяло подумал Хейконен, но встрепенулся, когда до него дошел весь смысл сказанных бабусей слов.
– Если они скрылись от белых, тогда они – за красных? Сколько их там? Как с ними связаться? Вооружены ли они? – вопросы создавали новые вопросы.
– Утром, – ответила старуха. – Сам все узнаешь. Теперь надо спать.
Конечно, утро вечера мудренее, но такое дело нельзя оставлять без внимания. Хейконен хотел, было, пойти прямо к Антикайнену, да прикинул, что тот после столь тяжелого перехода спит без задних ног. Но беспокоиться не стоит: караульная служба налажена, пойдут парни из лесу – их сразу обнаружат. А обнаружат – поднимут тревогу.
Успокоившись, командир первой роты почувствовал, как он устал. Еще загодя по «мудрому» совету Каръялайнена они накормили петухов салом, так что четыре часа можно спать. Четыре часа – это достаточно. Четыре часа – это просто роскошно.
Зачем петухам сало? Этого не знал никто, кроме командира второй роты. А тот сказал, как само собой разумеющееся: «Так поутру они горланить не смогут, лишний часок сна можно спокойно перехватить».
Действительно, посреди ночи ни один петух не прокукарекал. Все, наверно, передохли с сало-то. А Хейконену приснился под утро чудной сон.
Будто выглянул он в окно, а там бабка снегом умывается топлесс. Фыркает, трется и щерится. Срамота. Он сплюнул и проснулся. Привидится же такое! А плюнул он взаправду – прямо на лоб Яскелайнену. Командир начал вытирать у него свой плевок, да Матти проснулся, сел возле стены, ошалело огляделся, а потом сказал:
– Прости меня, Ласси.
– Тихо, тихо, – успокоил бойца, не убирая руку со лба, Хейконен. – Господь простит.
Иоганн Хейконен, которому на момент похода было 29 лет, считался одним из самых возрастных и уважаемых человек в отряде. Через двенадцать лет он станет секретарем ЦИКа Карельской АССР и будет им целых четыре года. А потом его убьют.
Найдут ли убийц? Найдут, конечно, им за это ордена и медали дадут, а также персональные пенсии. Оказывается, чтобы реализовывать свои садистские потребности, маньяком в кустах быть необязательно. Надо вступить в органы внутренних дел, в прокуратуру, в судебную «тройку» или сделаться судьей. Те люди, что расстреляют Иоганна Хейконена, не могут не получать от этого свой кайф. Такое, безусловно, было, такое, пожалуй, есть, такое, вероятно, и будет всегда.
Однако случится это только в 1937 году. Но до этого еще далеко, до этого еще дожить надо.
Все-таки прозевал командир первой роты момент, когда бабка встала на лыжи. Бесшумно выскользнув из-за печки, она не стала размениваться на всякие умывания в снегу – действительно, баловство какое-то в ее-то годы – а прямиком почесала по лыжне в темный предрассветный лес. Ни один караул ее не углядел.
А все кошка! Намурлыкала на ухо Иоганну свои сказки, пригрела своим мехом, прижала к лавке своими лапками – спи, братец, отдыхай.
Когда из леса вышли девять человек, предводительствуемые старушкой, уже слегка развиднелось. Караул, только что заступивший, их не пропустил: направил на них пулемет и приказал ложиться в снег – а то худо будет.
Но подоспевший на шум Суси, уже узнавший от Хейконена суть да дело, разрешил Юкке и его команде подойти на пушечный выстрел. Карел Петров и его мамаша, однако, подошли ближе. Прочие остались ждать на опушке.
– Вы красные? – настороженно спросил Юкка, не особо доверяясь рассказам своей мамаши. – А какие красные?
– Мы – красные шиши под управлением командира Антикайнена, – ответил Суси. – Мы пришли с миром к карелам, но с войной к лахтарит.
– Разрешите доложиться? – вытянулся бывший буденновец. – Мы перехватили две подводы с едой, которые направлялись к белофиннам. Возничим по мордам надавали и восвояси выгнали. На лахтарит напасть не могли, потому что оружия нет. Еду съели, свечи сожгли, в лесной сторожке сидеть больше не могли. А тут – вы!
Вот об этом случае и надо было написать Седякину, об идеологической составляющей похода, да как же отослать-то? Суси кивком позвал Юкку с собой, не забыв сказать старушке:
– Большое вам красноармейское спасибо за вашу политическую грамотность и прозорливость. Побольше бы таких бабок, так краше бы жилось на нашей Социалистической родине!
– Чего? – скривилась местная жительница Петрова.
– Спасибо за подушку, бабка, – объяснил ей Яскелайнен. – Иди скотину кормить. Петухи у тебя отчего-то кашляют.
Сын местной жительницы Петров покрутил над головой лыжной палкой, призывая своих товарищей то ли улетать, то ли юлить. Те, однако, решили по-своему и поехали по лыжне в деревню, начав издалека приветствовать красноармейцев: табачком не разжиться?
Антикайнен сидел в доме и «кивер чистил, весь избитый» – штопал свой маскхалат. Юкка гавкнул по-буденновски приветствие, Тойво немедленно укололся иглой, а Суси от неожиданности попятился назад. Зависла минута молчания, которую немедленно требовалось нарушить.
– Назначаю тебя, товарищ Юкка Петров, комендантом деревни Гадюкино. Двенадцать захваченных винтовок оставляю твоему отряду. Из девяти тысяч трофейных патронов забирайте восемь тысяч. Приказываю тебе именем советской власти соблюдать дисциплину отряда и бить лахтарит без пощады, – поднявшись, сказал Антикайнен.
– Деревня Пененга, – поправил командира Суси.
– Служу трудовому народу! – только и ответил Юкка. – Название деревни не важно, важна должность коменданта.
– Молодец! – похвалил его Тойво. – Орел!
Сразу же дали новым силам деревенской самообороны задание: похоронить поручика Ласси. Он, конечно, враг, но от этого человеком быть не переставал. А человеку нельзя отказывать в последней услуге. Силы самообороны сразу приуныли – кому охота в зимний день пробивать промерзшую землю на глубину в два метра? Им хотелось стрелять из винтовок по безголосым петухам, по наступающим лахтарит, да и вообще – лупить в белый свет, как в копеечку.
– А что с пленными будем делать? – спросил Оскари. – С собой тащить – так обуза полная. Здесь оставить – местные орлы расстреляют на радостях.
– И доклад надо Седякину отправить: три дня ваял, – задумчиво сказал Антикайнен. – Эврика. Пусть подводу организуют, упакуют туда арестантов и к железной дороге едут в сторону Сегежи. Там обязательно наши должны быть. А белофиннов, как раз, быть не должно. Ну, а образуются, значит придется товарищу Юкке стоять насмерть.
Каръялайнен как раз закончил допрашивать пленных поодиночке, снова собрал их гуртом. Ничего нового они не сказали, разве что Кимасозеро обозвали чуть ли не самой главной военной базой. Там, типа, склады, там, типа, начальство.
«Там, типа деньги», – подумал Тойво, а вслух сказал, убедившись, что его слова доносятся до лахтарит:
– Ну, вот, теперь нам дорога на Родину открыта. Двинем на Лиексу, там всех вырежем, а сами будем жить-поживать и в золоте купаться.
У Каръялайнена округлились глаза, а мудрый Суси широко заулыбался: дезу двигает командир на всякий случай.
За сборами как раз деревенские парни выкопали могилу. Решили хоронить белофинна на кладбище, чтобы уж все было соблюдено. Однако все соблюсти не удалось: гроба-то не было! Про запас обычно такие вещи никто не держит. Наспех сколотили из деревянных ящиков что-то с щелями, с трудом впихнули внутрь покойного, быстро понесли его к готовой яме. Попа в деревне не было, тот приезжал наездами, служил службы в местной часовенке, кушал, рыгал и уезжал обратно. Поэтому службу по убиенному никто не держал.
Но на кладбище собрался местный народ, в том числе и молодая девушка, выделяющаяся среди прочих людей заплаканными глазами. Красноармейцы смотрели на нее во все глаза, а она только прятала лицо в отворотах платка. Неожиданно бабка Петрова подошла к ящику и взвыла, как волчица. Трогая руками доски, она протяжно нараспев говорила что-то по-карельски, размежая речь громкими всхлипами и стонами. Красные финны и присутствующие здесь белый финны начали переглядываться – никому не было понятно, что, собственно говоря, происходит.
А происходило вот что: обычай такой. Плакальщицы должны плакать и нагнетать обстановку. За хорошими карельскими плакальщицами иной раз из соседних деревень приходили: повойте у нас, пожалуйста! Мать Юкки была как раз хорошей плакальщицей.
Антикайнен, прислушавшись, понял о чем плач стоит. Обычно сквозь хорошо поставленные рыдания описывают жизнь: родился, учился, женился, работал, на рыбалку ходил, а вот теперь на – помер. Старуха Петрова не знала о всем жизненном пути буржуя, поэтому просто предполагала, как бы он мог жить: перевоспитаться, стать колхозником, жениться, в ГУЛАГ съездить, либо только до Сандормоха[54 - Там закапывали расстрелянных в Карелии.] и тому подобное.
Девушка заплакала, тряся худенькими плечами. Яскелайнен не выдержал и отошел в сторонку. Заплакали и все присутствующие на похоронах женщины.
По праздникам будут деревенские люди и к этой могилке заходить, поминать незнакомого человека. А потом обрастет кладбище новыми могилами, потом уже сделается не до убитого Ласси.
Тойво, не дожидаясь пока зароют яму, подозвал к себе Юкку.
– Вот тебе, товарищ Петров, пакет, – сказал он. – В этом пакете особо важная информация, которую тебе надлежит передать командиру Советской Армии – любому, но, желательно, конечно, маршалу или генералиссимусу.
Новоявленный комендант деревни вытянулся в струнку, и лицо его тоже вытянулось. Вероятно, проникся важностью момента.
– В общем, пусть красноармейцы организуют доставку курьером, либо нарочным это мое донесение командарму Седякину. В нем, как раз, и про твою геройскую мамашу написано. Мол, вырастила настоящего героя-буденновца. Понятно?
Другие электронные книги автора Александр Михайлович Бруссуев
Другие аудиокниги автора Александр Михайлович Бруссуев
Полярник




 0
0