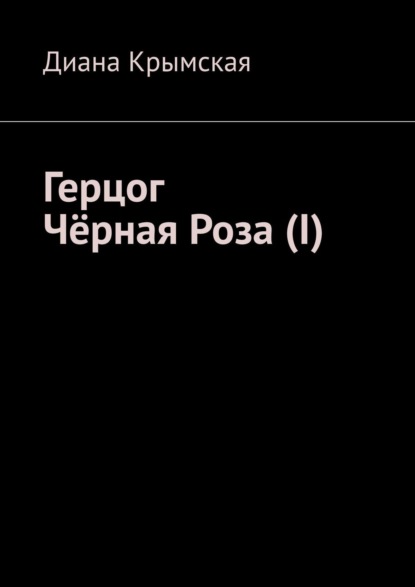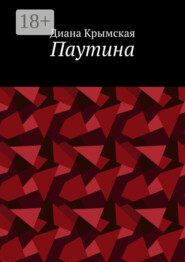По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Герцог Чёрная Роза (I)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дом решила взять с собой Пьера и Филиппа, а также кого-нибудь из замковых девушек в качестве камеристки.
Но тут ей в ноги бросилась Элиза и стала умолять не оставлять ее в Руссильоне.
– Госпожа! – плакала старая кормилица, – разрешите мне поехать с вами и с моим сыночком Пьером! А этой, как его… камелисткой… возьмите мою младшенькую, Адель!
У Элизы было четверо детей, причем двое младших – Адель и Леон – от покойного Роже Ришара. Старший ее сын, погибший при Безье, был ровесником Мари-Флоранс, а Пьер – ровесником Дом; так получилось, что Элиза была кормилицей и Фло, и Доминик.
Доминик не смогла отказать своей кормилице; Адель была пятнадцатилетняя приятная и расторопная девушка, и юная графиня велела собираться в дорогу и ей, и Элизе.
Замок оставался на попечение отца Игнасио. Впрочем, Дом была уверена, что в её отсутствие все здесь будет в порядке. Капеллан был строг, но справедлив, и вся челядь слушалась его беспрекословно.
И вот паланкин графини де Руссильон, украшенный на дверцах красными гербами, ждал у ворот замка. Элиза, Адель и Доминик сели в него. По бокам носилок гарцевали нарядно одетые Филипп и Пьер; к задку паланкина были привязаны вьючная лошадь и кобыла Снежинка. Четверо сменных носильщиков верхом замыкали отряд.
В Париж, в Париж! – стучало сердце Дом. – К герцогу Черная Роза!
4. Сдержанное обещание
В то время, как паланкин графини де Руссильон, покачиваясь, преодолевал первые лье на север по дороге в столицу, навстречу ему по той же парижской дороге, но на юг, скакали два закованных в латы рыцаря.
Один из них, повыше ростом и стройнее, в богатых доспехах с чернеными серебряными вставками и темно-синем плаще, ехал на прекрасном гнедом берберийском жеребце. Его спутник был невысок, очень широк в плечах и довольно грузен; его латы были не такие дорогие, а конь под ним был тоже массивный и коротконогий, немецкой породы.
Однако, встретиться рыцарям и носилкам было пока не суждено. В трех лье от Руссильонского замка от основной дороги шло ответвление влево. Тут-то двое всадников и остановили коней.
– По-моему, это здесь, Этьен, – сказал дворянин в синем плаще; а рыцарь явно был дворянином, и не простым, – так как его спутник ответил:
– Похоже, монсеньор.
– Этьен, у меня сжимается сердце! Когда я узнал, что она сделала… Как она могла? Зачем? Ведь я послал два письма графу Руссильону, сообщая, что я жив! Одно – из Тулузы, второе – из Парижа.
– Гонца могли убить. Время неспокойное.
– Нет; письма отвозил Франсуа и, по его словам, передавал лично в руки графу.
– Не доверяю я этому вашему Франсуа, вы уж простите за мою нормандскую грубую откровенность! У него такая физиономия…
– Я сужу о людях по делам, а не по лицам, барон де Парди! – довольно резко прервал его дворянин в синем плаще. – Франсуа мне верен; он спас мне жизнь.
– Я слышал об этом, – ответил барон. – Только что-то эта история кажется мне немного подозрительной… С чего бы у вас заклинило меч в ножнах? Разве ваши оруженосцы плохо смотрели за ним? Ну нет, и мой племянник Жерар, и Жан-Жак – упокой, Господи, их души! – были весьма старательны. А тут – самая сеча, а вы оказываетесь безоружны. И Франсуа дает вам свой клинок…
– Этьен! Давай не будем об этом. К чему эти нелепые подозрения? Я думаю вот о чем – не скрыл ли, по какой-то причине, сам граф эти письма от Мари-Флоранс?
– К чему ему это было нужно? Вы женаты на его дочери… он сам, как вы рассказывали мне, выбрал её вам в жены.
– Не понимаю! Что же произошло? Когда я лежал тяжело раненный в Тулузе и послал первое письмо – я так надеялся, что жена приедет ко мне! Мне стало бы легче, намного легче, Этьен; и я бы быстрее поправился. Если б даже она просто сидела рядом… Держала меня за руку… Какое это было бы счастье для меня!
– Вы, кажется, почти влюблены, – осторожно заметил де Парди.
– Влюблен? Да, ты прав, я был на пути к этому. Я редко, увы, вспоминал о ней… Но, когда это случалось, в затишье перед битвой, или на привале, – я сразу видел перед собою ее стройную фигурку, гордую осанку, темно-рыжие волосы, ее васильковые глаза. Таких синих глаз я никогда не встречал! – Он тяжело вздохнул и продолжал: – А потом пришло сообщение о болезни короля Людовика в Оверни, и я помчался туда, и застал его уже при смерти. Пока мы перевезли тело усопшего в Париж, потом – похороны в аббатстве Сен-Дени… Второе письмо в Руссильон я послал как раз во время подготовки к похоронам короля. Я был уверен – и граф, и Мари-Флоранс знают, что я жив, и она ждет меня; ведь я обещал ей вернуться! И вот, наконец, – мы едем с тобой в Руссильон, к моей жене; и встречаем в пути на парижской дороге барона де Моленкура. И он сообщает, что виделся с графом де Руссильон; и что его старшая дочь Мари-Флоранс ушла в картезианский монастырь… Правый Боже! Как это могло случиться?
– Монсеньор! Не терзайтесь так! Быть может, это неправда, или барон что-то перепутал. Ведь ему уже хорошо за шестьдесят, и память у него уже не та. Сейчас мы все узнаем… Ведь это дорога к монастырю, не так ли?
Навстречу рыцарям двигалась двухколесная повозка, запряженная осликом; крестьянин, идущий рядом, увидев господ, издалека скинул берет и низко поклонился.
– Эй, ты, – крикнул ему нормандец, – эта ли дорога ведет в монастырь?
Крестьянин покачал головой.
– Он тебя не понимает, – сказал рыцарь в синем плаще, и спросил о том же, но по-окситански. Виллан кивнул головой и что-то ответил.
– Что он говорит? – спросил де Парди.
– Что это та дорога; но что нам, наверное, нужен мужской монастырь, а здесь находится женский, – недобро усмехнулся его спутник. Они пришпорили коней, и вскоре на вершине холма увидели высокие стены обители.
Всадники подъехали к низкой окованной железом дверце в толстой стене. На уровне груди в дверце было зарешеченное окошечко, прикрытое изнутри ставнем. Слева от дверцы был приколочен ящик для подаяний; справа на медной цепочке висел медный же молоточек. Рыцари спешились, и тот, кого барон называл монсеньором, постучал в дверцу молоточком.
Прошло несколько минут; и рыцарь уже хотел постучать снова, но тут ставень открылся, и в зарешеченном окошечке появилось маленькое сморщенное личико в белом капюшоне. Выцветшие старческие глаза матери-привратницы равнодушно смотрели на двоих мужчин.
– Что вам угодно, дети мои? – прошелестела старуха.
– Матушка, мы бы хотели видеть Мари-Флоранс де Руссильон, – произнес дворянин в синем плаще.
– В нашей святой обители нет сестер с таким именем, – все тем же шепотом отвечала привратница.
– Мари-Флоранс, вероятно, приняла другое имя, когда постриглась в ваш монастырь.
– Мне об этом ничего не известно; только наша мать-аббатиса знает мирские имена послушниц и монахинь.
– В таком случае, матушка, попросите вашу настоятельницу прийти сюда, или пропустите нас к ней. Нам необходимо поговорить с нею!
– Поговорить? – старуха едва заметно усмехнулась, словно рыцарь сказал нечто необычайно смешное. – Мать-аббатиса не может с вами поговорить, дети мои. У неё сейчас «tempo silencio», время молчания.
– И сколько же оно продлится? – спросил рыцарь, и в его голосе послышалось еле сдерживаемое нетерпение.
– Кажется, месяц, дети мои. Приезжайте через тридцать дней и, возможно, мать-аббатиса и выйдет к вам сюда. Но вы к ней войти не сможете-наш строжайший устав запрещает мужчинам вход в обитель.
– Черт… извините, матушка… Но, даже если настоятельница не может говорить – слушать же она может? Сходите к ней, прошу вас, и передайте, что здесь находится муж Мари-Флоранс, и что он хочет видеть свою жену.
Лицо старухи исчезло из вида. Прошло не менее часа, и рыцарь уже изгрыз ручку своего хлыста, прежде чем в окошке опять появился тот же белый капюшон.
– Мать-аббатиса выслушала меня, дети мои. Она написала записку, хоть это и противоречит уставу, и показала мне жестом, что я должна прочитать её вам.
– Читайте же, Бога ради! – вскричал дворянин в синем плаще.
Старуха не спеша развернула листок и прочитала:
«Мари-Флоранс де Руссильон отныне – сестра божья Транкиллия. Она приняла обет вечного молчания и попросила замуровать себя, босую и в одной власянице, в келье, дабы наедине с собой, в тиши и темноте, найти вечное успокоение. Её столь строгое затворничество объясняется гибелью горячо любимого супруга, почившего шесть месяцев назад. Кто бы вы ни были, и с какими бы целями не явились в эту тишайшую из всех божьих обителей, – покиньте это место и не смейте насмехаться над горем злосчастной сестры Транкиллии».
– Насмехаться? – воскликнул рыцарь. – Матушка, это не насмешка! Я – супруг Мари-Флоранс, и я жив! Я могу это доказать! Разрешите мне только войти и поговорить с нею!
Другие электронные книги автора Диана Крымская
Паутина




 0
0