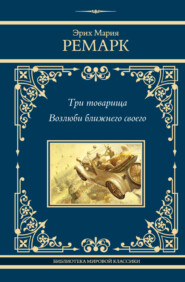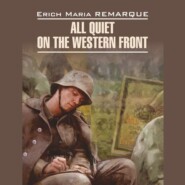По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это совсем не то, что я хотела сказать…
Я слышал тонкий запах ее теплой кожи, ее пудры, ее косметики.
– Мария! Мария! – заорал фотограф Ники. – Съемки! Съемки! Мы теряем время!
– Все совсем не так, Людвиг! – прошептала она. – Останься! Я хочу…
– Привет, Мария! – раздался чей-то голос у меня за спиной. – Это был потрясающий кадр. Не представишь меня?
Рослый мужчина лет пятидесяти протиснулся мимо меня, направляясь прямо к Марии.
– Мистер Людвиг Зоммер, мистер Рой Мартин, – сказала Мария неожиданно спокойным голосом. – Прошу меня извинить. Мне снова на эшафот. Но я скоро освобожусь.
Мартин остался возле меня.
– Вы, похоже, не американец? – спросил он.
– Это нетрудно расслышать, – отозвался я с плохо сдерживаемой неприязнью.
– Тогда кто вы? Француз?
– Лишенный гражданства немец.
Мартин улыбнулся.
– Вражеский иностранец, значит. Как интересно.
– Только не для меня, – как можно любезнее парировал я.
– Могу себе представить. Так вы эмигрант?
– Я человек, которого жизнь забросила в Америку, – сказал я.
Мартин рассмеялся.
– Изгнанник, значит. И какой же у вас сейчас паспорт?
Я увидел, как Мария выходит на подиум. На ней было летнее платье, очень нарядное, с большущими цветами.
– Это допрос? – поинтересовался я нарочито спокойным тоном.
Мартин снова рассмеялся.
– Нет. Чистое любопытство. Почему вы так спросили? У вас есть основания опасаться допросов?
– Нет. Но я достаточно часто им подвергался. В качестве изгнанника, как вы изволили выразиться.
Мартин вздохнул.
– Это все следствие обстоятельств, возникших по вине Германии.
Я чувствовал: он хочет запугать меня, лишить меня уверенности. И скрытую угрозу – мол, держись подальше от людей моего круга – тоже прекрасно расслышал.
– Вы еврей? – вдруг спросил он.
– Вы действительно ждете ответа на этот вопрос?
– Почему нет? Я с большой симпатией отношусь к этому несчастному, многострадальному народу.
– В Америке вы первый, кто вот так прямо меня об этом спрашивает.
– Ну уж, ну уж, – не согласился Мартин. – Может, и в службе эмиграции не спросили?
– Там – конечно. Но то чиновники, это их работа. А так никто.
– Странно, – улыбнулся Мартин, – до чего иной раз евреи чувствительны, когда их спрашиваешь о национальности.
– Это совсем не так странно, как вам кажется, – возразил я, чувствуя на себе неотрывный взгляд Марии. – За последнее десятилетие их слишком часто об этом спрашивали самые разные люди: чиновники в гестапо, палачи в камерах пыток, уголовники в тюрьмах, жандармы на воле.
Глаза Мартина на миг сузились. Но он тут же снова улыбнулся.
– Ну, вы-то вообще не очень похожи. Кстати, в Америке и этого можно не опасаться.
– Знаю, – ответил я. – Антисемитизм ограничен здесь только рядом особо шикарных отелей и клубов, куда евреев не пускают.
– Вы неплохо осведомлены, – заметил Мартин. А потом, без всякого перехода, продолжил: – Я собираюсь сегодня поужинать с мисс Фиолой в «Эль Марокко». Присоединиться к нам не желаете?
В первый миг я даже слегка опешил от неприкрытого коварства, с каким он заманивал меня в ловушку, но у меня не было ни малейшего желания оказаться в роли подопытного кролика, над которым весь вечер на глазах у Марии будет потешаться крупный государственный чиновник, зная, что я не могу ему ответить, и пользуясь этой моей беспомощностью.
– Очень жаль, – сказал я. – Но у меня сегодня еще одна встреча. С господином Нусбаумом, главным раввином Бруклина. Я приглашен к нему на шаббат. Может, как-нибудь в другой раз. Большое спасибо.
– Что ж, если вы так набожны… – С плохо скрываемым торжеством Мартин отвернулся. А я, увидев, что подиум опустел, направился к выходу. Манекенщицы как раз переодевались за большой ширмой. Тем лучше, подумал я. Хватит с меня унижений. В кармане у меня была сотня, полученная сегодня от Реджинальда Блэка. Я намеревался на эти деньги сводить Марию в «Вуазан». Твердой уверенности, что на сегодня она уже условилась с Мартином, у меня не было. Очень может быть, что и нет. Но с какой стати тогда она разыскивала меня по телефону? Я не знал. Да и не хотел знать – с меня достаточно.
Я шел очень быстро, надеясь еще застать Роберта дома. Всю дорогу я мысленно осыпал себя упреками, что бросил его одного в трудную минуту. Он бы так никогда со мной не поступил. Ничего, зато и я получил по заслугам. Я был вне себя от стыда, горечи и перенесенного унижения. Все-таки, значит, Роберт Хирш прав: даже здесь, Америке, нас всегда будут только терпеть, мы так и останемся людьми второго сорта, «вражескими иностранцами», явно чужими, лишними здесь только потому, что родились не там, где нам из милости позволено жить. И в Германии, если нам суждено туда вернуться, мы тоже будем нежелательными чужаками. Никто не встретит нас там с распростертыми объятиями, думал я. Раз уж нам удалось избежать концлагерей и крематориев, к нам и относиться будут соответственно – как к людям, избежавшим своей участи, как к беженцам и дезертирам.
В магазине Роберта Хирша было темно. И в его комнате тоже. Я вспомнил, что он собирался сходить поужинать в «Дары моря» и поспешил туда. Мне вдруг показалось, что вот-вот случится несчастье, и я почти всю дорогу бежал – слишком часто на моей памяти в таких случаях все решали минуты.
Огромные окна ресторана ослепительно сияли. Я на секунду остановился перевести дух, чтобы не вбегать в зал совсем уж очертя голову. Несчастные омары с проткнутыми клешнями слабо шевелились на крошеном льду, превратившим последние часы их существования в нестерпимую пытку, – вот также юмористы-эсэсовцы из охраны концлагерей обливали заключенных водой и нагишом выставляли зимой на мороз, пока те не превращались заживо в ледяные скульптуры.
Роберта я увидел сразу же. Он сидел один за столиком, изучая омара у себя на тарелке.
– А вот и снова я, Роберт, – сказал я.
Его лицо на секунду осветилось радостью, но тут же застыло в тревожном вопросе.
– Что стряслось?
– Ничего, Роберт. Странно, люди просто меняют планы, а нам все мерещится, будто непременно случилось что-то страшное. Это все в прошлом, Роберт. В Америке ужасы не подстерегают человека на каждом шагу.