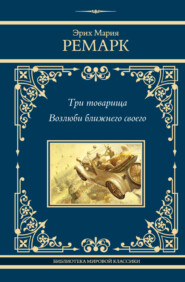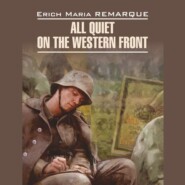По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, Мария. Мы слишком рано изведали одиночество на все вкусы, чтобы верить в счастье, чтобы не знать, что человеку ничего не остается, кроме горя. Зато мы научились считать счастьем тысячу самых разных вещей – например, счастье выжить, или счастье избежать пыток, спастись от преследования, счастье просто быть. Но после всего этого разве не проще возникнуть легкому, летучему счастью – по сравнению с прежними временами, когда в цене было только тяжеловесное, солидное, длительное счастье, которое так редко выпадает, потому что основано на буржуазных иллюзиях? Почему бы нам не оставить все как есть? И как вообще, черт возьми, мы втянулись в этот идиотский разговор?
Мария рассмеялась и оттолкнула меня от себя.
– Понятия не имею. Водки хочешь?
– Там от мойковского самогона что-нибудь осталось?
Она посмотрела на меня.
– Только от него и осталось. Остальную водку я послала ему ко дню рожденья.
– И он, и графиня были очень счастливы.
– А ты?
– Я тоже, Мария. А в чем дело?
– Я не хотела отсылать эту водку обратно, – сказала она. – Как-то уж слишком это все торжественно. Не исключаю, что он еще пришлет. Но ты ведь не хочешь?
Я рассмеялся.
– Как ни странно, нет. Хотя несколько дней назад мне было все равно. А теперь что-то изменилось. Как ты думаешь, может, я ревную?
– Я бы не возражала.
Мария ворочалась во сне. За окном между небоскребами полыхали дальние зарницы. Всполохи бесшумных молний призраками метались по комнате.
– Бедный Владимир, – вдруг пробормотала она. – Он такой старый, смерть совсем близко. Неужели он все время об этом помнит? Какой ужас! Как можно смеяться и радоваться чему-то, когда знаешь, что очень скоро тебя не будет на свете?
– Наверное, это и знаешь, и не знаешь, – сказал я. – Я видел людей, приговоренных к смерти, так они и за три дня до казни были счастливы, что не попали в число тех, кого прикончат сегодня. У них еще оставалось двое суток жизни. По-моему, волю к жизни истребить тяжелее, чем саму жизнь. Я знал человека, который накануне казни обыграл в шахматы своего постоянного партнера, которому до этого неизменно проигрывал. И был рад до полусмерти. Знавал я и таких, кого уже увели, чтобы прикончить выстрелом в затылок, а потом приводили обратно, потому что у палача был насморк, он чихал и не мог как следует прицелиться. Так вот, одни из них плакали, потому что придется умирать еще раз, а другие радовались, что им дарован еще день жизни. На пороге смерти происходят странные вещи, Мария, о которых человек ничего не знает, пока сам их не испытает.
– А Мойкову случалось такое испытывать?
– Не знаю. По-моему, да. В наше время такое случалось со многими.
– И с тобой?
– Нет, – ответил я. – Не совсем. Но я был рядом. Это был совсем не худший вариант. Пожалуй, едва ли не самый комфортабельный.
Марию передернуло. Казалось, озноб пробежал по ее коже, как рябь по воде.
– Бедный Людвиг, – пробормотала она, все еще в полусне. – А это можно когда-нибудь забыть?
– Есть разные виды забвения, – ответил я, наблюдая, как высверки бесшумных молний проносятся над молодым телом Марии, словно взмахи призрачной косы, скользя по ней, но оставляя невредимой. – Как и разные виды счастья. Только не надо путать одно с другим.
Она потянулась и стала еще глубже погружаться в таинственные чертоги сна, под сводами которых, вскоре позабыв и меня, она останется наедине с неведомыми картинами своих сновидений.
– Хорошо, что ты не пытаешься меня воспитывать, – прошептала она с закрытыми глазами. В белесых вспышках молний я разглядел, какие длинные и удивительно нежные у нее ресницы – они подрагивали, словно крылья черных бабочек, усевшихся ей на глаза. – Все норовили меня воспитывать, – пробормотала она уже совсем сквозь сон. – Только ты – нет.
– Я – нет, Мария, – сказал я. – Я и не буду.
Она кивнула и плотнее вжалась в подушку. Дыхание ее изменилось. Оно стало ровнее и глубже. Она ускользает от меня, думал я. Теперь вот Мария уже и не помнит обо мне; я для нее только тепло дыхания и что-то живое, к чему можно прильнуть, но еще несколько мгновений спустя от меня не останется и этого. И тогда все, что в ней сознание и иллюзия, повлечется по потокам бессознательного уже без меня, восторженно ужасаясь диковинным всполохам снов, словно мертвенным зигзагам молний за окном, и она, уже совсем не тот человек, которого я знал днем, чужая мне, будет в зареве полярных сияний совсем иных полюсов и во власти прихотей совсем иных, нездешних сил, открытая любым тяготениям, свободная от оков морали и запретов собственного «я». Как далеко ее уже унесло от минувшего часа, когда мы верили бурям нашей крови и, казалось, сливались воедино в счастливом и горьком самообмане самой тесной близости, какая бывает между людьми, под просторным небом детства, когда еще мнилось, что счастье – это статуя, а не облачко, переменчивое и способное улетучиться в любой миг. Тихие, на грани бездыханности, вскрики, руки, сжавшие друг друга, будто навсегда, вожделение, именующее себя любовью и прячущее где-то в своих потаенных глубинах бессознательный, животный эгоизм и жажду смертоубийства, неистовое оцепенение последнего мига, когда все мысли улетают прочь и ты только порыв, только соитие и, познав другого, не помнишь ни его, ни себя, но упиваешься обманчивой надеждой, что теперь вы одно целое, что теперь вы отдались друг другу, хотя на самом деле именно в этот миг вы чужды друг другу, как никогда, и самому себе чужды не меньше, – а потом сладкая истома, блаженная вера обретения себя в другом, мимолетное волшебство иллюзии, небо, полное звезд, которые, впрочем, уже медленно меркнут, впуская в душу тусклый свет буден или непроглядную темень мрачных дум.
«Блаженная спящая душа, меня не помнящая, – думал я, – прекрасный фрагмент бытия, с которого первая же тень дремоты стирает мое имя начисто и без следа, как можешь ты бояться стать мне слишком родной и слишком близкой только потому, что страшишься разлуки? Разве не ускользаешь ты от меня каждую ночь, и я даже не знаю, где ты пребывала и что тебя коснулось, когда ты наутро снова раскрываешь глаза? Ты считаешь меня цыганом, неугомонным кочевником, тогда как я всего лишь ускользнувший от своей судьбы обыватель, нахлебавшийся лиха и взваливший на себя непосильную орестейскую ношу кровной мести, – а настоящая цыганка как раз ты, в вечных поисках собственной тени и в погоне за собственным «я». Милое, неприкаянное создание, способное устыдиться даже того, что не умеет готовить! И не учись никогда! Кухарок на свете достаточно. Их куда больше, чем убийц, даже в Германии».
Откуда-то сбоку из-за стены донесся приглушенный лай. Должно быть, это Фифи. Не иначе Хосе Крузе привел на ночь очередного приятного гостя. Я блаженно вытянулся возле Марии, стараясь не потревожить ее. Она тем не менее что-то почувствовала.
– Джон, – пробормотала она, не просыпаясь.
XVIII
– Мы, антиквары и торговцы искусством, живем за счет одного примитивного и неистребимого свойства человеческой натуры, – со вкусом разглагольствовал Реджинальд Блэк. – За счет стремления человека к собственности.
Свойства поистине удивительного, ибо ведь каждый знает, что рано или поздно умрет и ничего с собой туда забрать не сможет. И удивительного вдвойне, поскольку каждый знает, что музеи просто ломятся от замечательных картин, картин такого качества, какие на рынке встречаются крайне редко. Кстати, вы побывали в музее Метрополитен?
Я кивнул.
– Даже два раза.
– Вам бы надо каждую неделю ходить туда, чем резаться в шахматы с этим русским самогонщиком в ваших грошовых номерах. «Вавилонскую башню» видели? А толедский ландшафт Эль Греко? Все вывешено на всеобщее обозрение, даром. – Реджинальд Блэк отхлебнул коньяку (самого хорошего, для клиентов, которые покупают больше, чем на двадцать тысяч долларов) и погрузился в грезы. – Это же бесценные шедевры. Страшно подумать, сколько на них можно заработать…
– Это в вас тоже говорит человеческое стремление к собственности? – ввернул я.
– Нет, – ответил он с укором в голосе и отвел руку с бутылкой, из которой совсем уже было собрался подлить мне коньяка. – Это моя, унаследованная от предков, страсть торговца, та самая, которая пребывает в вечном споре с моей любовью к искусству и, к сожалению, то и дело берет верх. И все равно я не пойму – почему люди не идут в музеи, чтобы там без забот, без хлопот любоваться гениальными творениями, а предпочитают вместо этого за огромные деньги приобрести несколько не вполне даже законченных Дега и повесить их у себя в квартире, чтобы потом без конца трястись от страха перед ворами, перед бестолковыми горничными, которые тычут куда ни попадя рукоятью швабры, или гостями, способными загасить сигарету обо что придется? В любом музее картины гораздо лучше, чем у так называемых коллекционеров.
Я рассмеялся.
– Да вы просто заклятый враг всех антикваров. Вас послушать – и люди перестанут покупать картины. Вы бескорыстный Дон-Кихот от антикварной торговли.
Блэк польщенно улыбнулся и, смилостившись, снова взялся за бутылку.
– Сейчас столько разговоров о социализме, – продолжал он. – А между тем все самое прекрасное в мире и так открыто для каждого. Музеи, библиотеки, да и музыка, вон какие замечательные концерты по радио, Тосканини со всеми концертами и симфониями Бетховена каждую неделю в музыкальном часе. Не было в истории эпохи, более благоприятной для комфортабельного сибаритского существования, чем нынешняя. Вы только взгляните на мою коллекцию альбомов по искусству! Когда есть такое, да еще музеи, зачем вообще держать картины дома? Нет, честное слово, иногда хочется просто забросить профессию и жить вольной птицей!
– Почему же вы этого не сделаете? – поинтересовался я, на всякий случай хватаясь за рюмку, которую он успел мне налить.
Блэк вздохнул.
– Это все двойственность моей натуры.
Я не мог не залюбоваться этим благодетелем человечества. Он обладал поистине изумительным свойством свято верить во все, что говорит в данную минуту. Однако на самом деле он ни единой секунды и ни единому слову своему при этом не верил, что и спасало Блэка от репутации хвастливого болтуна и даже напротив – придавало его облику блеск ироничной элегантности. Сам того не зная и не желая признавать, он был актером и всю жизнь актерствовал.
– Позавчера мне позвонил старый Дюрант-второй, – продолжил Блэк. – У этого человека двадцать миллионов долларов, и он хочет купить маленького Ренуара. При этом у него рак в последней стадии, о чем он прекрасно знает. Врачи дают ему всего лишь несколько дней жизни. Ну, я беру картину и еду к нему. Спальня старика просто пропахла смертью, несмотря на всю дезинфекцию. Смерть, да будет вам известно, самый стойкий парфюм, она перебивает любой запах. Сам старик уже просто скелет, одни глазищи остались, кожа как пергамент, только вся в коричневых пятнах. Но в картинах разбирается, в наши дни это редкость. А еще больше разбирается в деньгах, что в наши дни совсем не редкость. Я запрашиваю двадцать тысяч. Он предлагает двенадцать. Потом, с невероятными хрипами в груди, задыхаясь от приступов кашля, поднимается до пятнадцати. Я вижу, что он хочет купить, и не уступаю. Но и он уперся. Можете себе представить: миллионер, которому осталось протянуть всего-то пару дней, как грошовый старьевщик, торгуется за свою последнюю радость в жизни. При этом ненавидит своих наследников лютой ненавистью.
– Бывает, что миллионеры внезапно выздоравливают, – заметил я. – С ними и не такие чудеса случаются. Ну, и чем же дело кончилось?
– Я унес картину обратно. Вон она стоит. Взгляните.
Это был прелестный маленький портрет мадам Анрио.