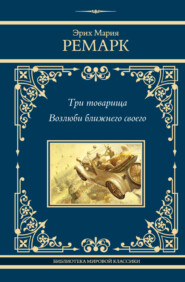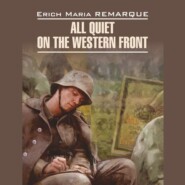По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это был пудель, бежевой масти, – доказывал Куновский, но уже без прежней уверенности. – Точь-в-точь такой же масти, как пудель этого господина. Остальные-то все серые, черные, белые или коричневые.
– Неужели? – Вступившийся за Хосе и его пуделя незнакомец обернулся, широким жестом указывая на панораму Пятьдесят седьмой улицы. – Да вы посмотрите как следует!
Это был час собачьего моциона. По краям тротуаров, уподобляя улицу аллее сфинксов, в характерных меланхолически-сосредоточенных позах лунатиков-идолопоклонцев застыли псины, справляющие свою нужду.
– Вон! – указывал незнакомец. – Второй справа – палевый, и напротив еще один, а потом еще сразу два, вон за тем белым, крупным. Ну, что теперь скажете? И вон еще, из пятьсот восьмидесятого дома как раз двое выскочили!
Куновский уже с проклятьями ретировался на рабочее место.
– Все вы тут одна шайка, все заодно, – бормотал он, извлекая из ведра с водой мокрую тряпку, чтобы вытереть испорченный номер «Эсквайра» и поместить его среди удешевленных изданий как якобы подмоченный дождем.
Хосе Крузе проводил меня до самого подъезда Марии Фиолы, где за дверью его уже как ни в чем не бывало ждал Фифи.
– Это не пес, а гений, – гордо пояснил хозяин. – Когда он что-нибудь такое натворит, точно знает: мы с ним больше не знакомы. И подворотнями, закоулками прибегает домой сам. Так что Куновский может подкарауливать его хоть до скончания века. И даже если он в полицию заявит, Фифи будет наверху, дома: дверь-то у меня всегда открыта. У нас от людей секретов нету.
Он снова захохотал, колыхнув телесами, напоследок еще разок хлопнул меня по плечу и только после этого отпустил восвояси.
Я поднимался в лифте на этаж Марии Фиолы. После встречи с Крузе остался какой-то неприятный осадок. В принципе я ничего не имею против гомосексуалистов, но сказать, чтобы я был так уж «за», тоже нельзя. Я знаю, конечно, многие титаны духа были гомосексуалистами, но сомневаюсь, чтобы они также кичливо демонстрировали это всем и каждому. Крузе почти испортил мне радостное предвкушение встречи с Марией, на миг мне показалось, что его пошловатые, дешевые остроты испачкают даже ее. Имя хозяина на двери квартиры, в которой сейчас обосновалась Мария, тоже не улучшило мне настроения, ведь с ее слов я знал, что он из той же братии педиков. Знал я и то, что манекенщицы по-своему жалуют гомосексуалистов, поскольку в их обществе избавлены от грубых мужских приставаний.
«Так ли уж избавлены?» – думал я, нажимая на кнопку звонка. Ведь мне случалось слышать и об универсалах, способных работать на два фронта. Все еще дожидаясь у двери, я даже головой помотал, словно силясь стряхнуть прилипшую к волосам паутину. «Значит, это не только Крузе мне не дает покоя, – подумал я. – Что-то есть еще. А может, я просто не привык звонить в двери, за которыми меня ждет нечто вроде тихого семейного счастья?»
Мария Фиола, приоткрыв дверь, смотрела на меня в щелочку.
– Ты опять в ванной? – спросил я.
– Да. Профессия такая. Сегодня у нас были съемки в фабричном цехе. Эти фотографы чего только не придумают! Сегодня им, видите ли, понадобились клубы пыли! Входи! Я сейчас. Водка в холодильнике.
Она пошлепала обратно в ванную, оставив дверь открытой.
– День рожденья Владимира отмечали?
– Только начали, – сказал я. – Графиня при виде твоей водки впала в ностальгический экстаз. Когда я уходил, она своим дребезжащим голоском запевала русские песни.
Мария открыла слив ванны. Вода зажурчала, и Мария рассмеялась.
– Тебе хотелось остаться? – спросила она.
– Нет, Мария, – ответил я и сразу почувствовал, что это неправда. Но в тот же момент, поскольку как раз это и мешало мне всю дорогу, все мгновенно улетучилось, так что мой ответ перестал быть неправдой.
Голая, еще мокрая, Мария вышла из ванной.
– Мы еще вполне можем туда успеть, – сказала она, испытующе глядя в мою сторону. – Не хочу, чтобы ради меня ты лишал себя чего-то, чего ты себя лишать не хочешь.
Я расхохотался.
– Какая высокопарная фраза! И надеюсь, Мария, что вполне лицемерная.
– Не вполне, – возразила она. – И уж вовсе не в том смысле, какой ты в нее вкладываешь.
– Мойков осчастливлен твоей водкой, – сообщил я. – Правда, одну бутылку уже выпила графиня. Но остальные он успел припрятать. У Лахмана новая любовь – кассирша из кинотеатра, она пьет шартрез.
Мария все еще смотрела на меня.
– По-моему, тебе все-таки хочется пойти.
– Чтобы лицезреть Лахмана на вершине любовного счастья? В еврейских сетованиях на жизнь он хотя бы изобретателен, но в счастье скучен до безобразия.
– Наверное, как и все мы?
Я не сразу ответил.
– Впрочем, кому это мешает? – сказал я наконец. – Разве что другим. Или кому-то, для кого внимание окружающих важнее всего на свете.
Мария усмехнулась.
– Значит, живому манекену вроде меня.
Я поднял на нее глаза.
– Ты не манекен.
– Нет? А кто же я?
– Что за дурацкий вопрос! Если б я знал…
Я осекся. Она снова усмехнулась.
– Если б ты знал, то и любви был бы конец, верно?
– Не знаю. Ты считаешь, когда что-то незнакомое, что есть в каждом человеке, становится понятным и близким, то интерес угасает?
– Ну, не совсем так, по-медицински. Но в этом роде.
– Опять-таки не знаю. Может, наоборот, после этого как раз и наступает то, что называется счастьем.
Мария Фиола медленно прошлась по комнате.
– Думаешь, мы на это еще способны?
– А почему нет? Ты разве нет?
– Не знаю. По-моему, нет. Что-то есть такое, что мы утратили. В поколении наших родителей оно еще было. Правда, у моих-то родителей нет. Что-то такое из прошлого столетия, когда еще верили в Бога.
Я встал и обнял ее. В первое мгновение мне почудилось, что она дрожит. Потом я ощутил тепло ее кожи.
– А по-моему, когда люди говорят вот такие глупости, они очень близки к счастью, – пробормотал я, уткнувшись ей в волосы.
– Ты правда так думаешь?