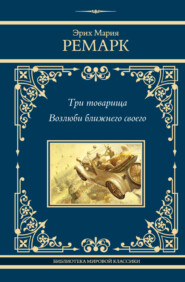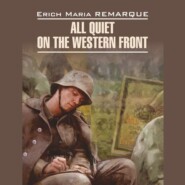По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да что случилось-то? Мы ведь не прокаженные…
– Позвольте мне уйти! – Госпожа Елинек побледнела и дрожала все сильней.
– Позвольте ей уйти, господин Камп, – спокойно попросила Кармен своим глубоким, грудным голосом.
Он немедленно отпустил Катарину. Госпожа Елинек неловко изобразила прощальный жест и выскользнула за дверь. Камп смотрел ей вслед.
– Не иначе, приступ эмигрантского бешенства. Все мы время от времени начинаем сходить с ума.
Медленно, будто трагическая актриса, Кармен покачала головой.
– Она сегодня получила телеграмму. Из Берна. Ее муж умер. В Вене.
– Старик Елинек? – спросил Камп. – Тот самый, который ее выставил?
Кармен кивнула.
– Все это время она ради него копила деньги. Хотела вернуться.
– Вернуться? После всего, что случилось? С ней здесь и с ним там?
– Да, хотела. Думала, тогда они зачеркнут все прошлое и начнут жизнь сначала.
– Глупость какая!
Хирш посмотрел на Кампа.
– Не говори так, Георг. Разве ты сам не хочешь начать сначала?
– Откуда мне знать? Живу как живется.
– Это обычная прекраснодушная иллюзия всех эмигрантов. Все позабыть и начать сначала.
– По-моему, ей радоваться надо, что этот Елинек концы отдал. Для нее же лучше. Не придется бросать свою теплую пекарню ради этого типа, который выкинул ее на улицу, словно кошку, и опять служить ему вечной рабыней.
– Люди не всегда горюют только о хорошем, – задумчиво сказал Хирш.
Камп растерянно оглядел присутствующих.
– Черт возьми, – сказал он. – Мы ведь так хотели повеселиться сегодня.
Вошел Равич.
– Как дела у Джесси? – спросил я.
– Сегодня утром ее отвезли домой. Она еще недоверчивей, чем прежде. Чем лучше идет заживление, тем недоверчивее она становится.
– Лучше? – спросил я. – Действительно лучше?
Вид у Равича был усталый.
– Что значит «лучше»? – бросил он. – Замедлить приближение смерти – это все, что в наших силах. Абсолютно бессмысленное занятие, как глянешь в газеты. Молодые здоровые парни гибнут тысячами, а мы тут стараемся продлить жизнь нескольким больным старикам. Коньяка у вас не найдется?
– Ром, – ответил я. – Как в Париже.
– А это кто такой? – спросил Равич, указывая на Кампа.
– Последний жизнерадостный эмигрант. Но и ему оптимизм нелегко дается.
Равич выпил свой ром залпом. Потом посмотрел в окно.
– Сумеречный час, – сказал он. – Crepuscule[44 - Сумерки (фр.).]. Час теней, когда человек остается один на один со своим жалким «я» или тем, что от него осталось. Час, когда умирают больные.
– Что-то ты уж больно печален, Равич. Случилось что-нибудь?
– Я не печален. Подавлен. Пациент умер прямо на столе. Казалось бы, пора уже привыкнуть. Так нет. Сходи к Джесси. Нужно ее поддержать. Постарайся ее рассмешить. На что тебе сдались эти сладкоежки?
– А тебе?
– Я зашел за Робертом Хиршем. Хотим пойти в бистро поужинать. Как в Париже. Это Георг Камп, который писатель?
Я кивнул.
– Последний оптимист. Отважный и наивный чудак.
– Отвага! – хмыкнул Равич. – Я готов заснуть на много лет, лишь бы проснуться и никогда больше не слышать этого слова. Одно из самых испохабленных слов на свете. Прояви-ка вот отвагу и сходи к Джесси. Наври ей с три короба. Развесели ее. Это и будет отвага.
– А врать ей обязательно? – спросил я.
Равич кивнул.
– Давай куда-нибудь сходим, – сказал я Марии. – Куда-нибудь, где будет весело, беззаботно и непритязательно. А то я оброс печалью и смертями, как вековое дерево мхом. Премия от Реджинальда Блэка все еще при мне. Давай сходим в «Вуазан» поужинать.
Мария устремила на меня невеселый взгляд.
– Я сегодня ночью уезжаю, – сказала она. – В Беверли-Хиллз. Съемки и показ одежды в Калифорнии.
– Когда?
– В полночь. На несколько дней. У тебя хандра?
Я покачал головой. Она втянула меня в квартиру.
– Зайди в дом, – сказала она. – Ну что ты стал в дверях? Или ты сразу же хочешь уйти? Как же мало я тебя знаю!
Я прошел за ней в сумрак комнаты, слабо освещенный только окнами небоскребов, как полотно кубистов. Неподвижный, очень бледный полумесяц повис в проплешине блеклого неба.
– А может, все-таки сходим в «Вуазан»? – спросил я. – Чтобы сменить обстановку?