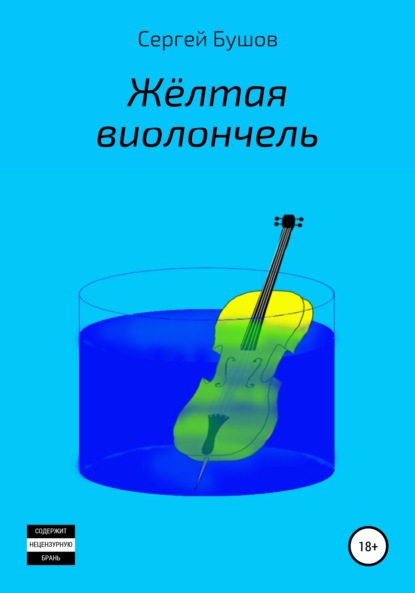По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жёлтая виолончель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Швейцар скривился в глупой улыбке и забормотал: «Подайте на пропитание и на водку. Трубы горят, командир. Мочи нет».
– Тьфу! – сказал Иванов, и я внезапно выпал из видения в его кабинет.
– Что-то не так? – спросил я.
– Да всё не так, – сказал Иванов. – У вас в голове какой-то бессмысленный мусор. Надо бы его как-то почистить… Знаете, что? Сейчас вы отправитесь, куда вам там надо, а через неделю придёте на сеанс. И всю неделю, чёрт вас побери, повторяйте про себя «Я люблю людей».
– Но это же неправда, профессор…
– Я знаю! И никакой я вам не профессор. Довольно. Вы свободны.
Я встал. Голова снова закружилась.
– Профессор… То есть, Герман Иосифович… А вы в следующий раз можете ещё денег принести? Пусть не все, но что-нибудь. Только настоящие…
Иванов посмотрел на меня хмуро. Хотел снова поправить очки, но, не донеся руку до лица, передумал.
– Хорошо, – сказал он. – Но я вам ещё и кое-что лучше принесу. Новый эликсир…
– Извините, – сказал я. – А этот как долго… Ну…
– Слушайте, – Иванов разозлился. – Я вам уже сказал – он не должен вам мешать. Ни в чём. Если вы себя чувствуете необычно, это просто самовнушение. Он не пахнет, не оставляет следов на одежде, не вызывает потливости, в конце концов…
Я покачался на месте, пытаясь переварить услышанное, потом что-то сказал ему – кажется, попрощался – и вышел на улицу. Хотел придержать дверь, но она выскользнула из руки и громко хлопнула.
Я постоял немного, приходя в себя. Погода стояла серая, уже начинало смеркаться. На доме напротив висела неоновая вывеска «Парикмахерская». Я подумал, не зайти ли туда. Волосы уже лезли в глаза. Потом я вспомнил, что у меня мало денег, а жить на них предполагалось ещё неизвестно сколько времени. В довершение всего буква «П» на вывеске внезапно погасла, и это отчего-то заставило меня вздрогнуть. Я двинулся по улице к метро. Оно было совсем близко, и скоро я оказался на импровизированным мини-рынке.
Рядки торговцев барахлом были разбавлены уличными попрошайками. Я никогда не подавал им. Отчасти потому, что у меня никогда не было лишних денег, но скорее потому, что знал – большинство из них профессионалы в своём мастерстве, и у каждого есть своя мафиозная «крыша», которой достаются почти все доходы.
Паноптикум. Мне здесь разные личности попадались. Крохотное сочувствие у меня вызывали только две категории. Бывали инвалиды разных войн. Их было жалко, хотя я не знал точно ни то, действительно ли они пострадали на войне, ни что они там делали, ни, тем более, почему они не могут заняться чем-то ещё, кроме выклянчивания денег. Были алкаши. Им я верил, хотя денег тоже не давал, поскольку смысла в этом было не больше, чем деньги просто выбросить. Остальные же у меня вызывали только раздражение. Люди, заставляющие собак целыми днями выпрашивать денег якобы им на корм. Женщины, сующие всем под нос истории болезни детей – явно чужие или вовсе фальшивые. Мнимые слепые. Люди с зашитыми ртами и заклеенными глазами. Люди, выставляющие свои покалеченные части тела напоказ, чтобы вызвать жалость. Я ненавидел их.
Ко мне приближалась группа цыганок с маленькими детьми. Я на всякий случай снял со спины рюкзак и прижал его к груди. Одна из цыганок отделилась от пёстрой толпы и направилась ко мне, бормоча «Давай погадаю, на богатство, на любовь. Милок, большое счастье тебя ждёт…»
Я увернулся, стиснув зубы. Вот вам люди, Герман Иосифович. Я их должен любить? Не буду я бормотать всякую ерунду…
Один цыганёнок прижался ко мне сбоку, и я еле успел оттолкнуть его руку, готовую залезть в мой карман. Вот ведь стервец…
А эту «жёлтую виолончель», кстати, я уже дней пять про себя повторял, и никакого эффекта. Ни жёлтых виолончелей, ни красных, ни коричневых. Даже скрипки никакие по пути не попадались за последнее время. И песен с такими словами не слышал. Не буду больше это бормотать. Лучше уж что-нибудь другое желать. «Чтобы вас всех, люди, приподняло и как следует шлёпнуло».
Я вдруг подумал, что действительно хочу, чтобы все окружающие куда-нибудь исчезли. Чтобы на Москву упала какая-нибудь супербомба и стёрла всех этих цыган, попрошаек, алкашей с лица Земли. И Левина. И слушателей моих лекций. Да что там – мне и лица всех тех, кто выходил навстречу мне из метро, казались отвратительны. Чему улыбается эта длинноногая девица? Надо мной, что ли, смеётся? А этот небритый мужик похож на Жупанова. Тоже, небось, детей по ночам лупит.
Не хотел я больше повторять слова про жёлтую виолончель. В конце концов, если в результате моего бормотания некая гипотетическая жёлтая виолончель появится в мире, я могу её не встретить. Или не заметить. Или проспать, в конце концов. Пусть уж лучше и правда бомба. Пусть всех убьёт. Может, и меня. Какой смысл в моей жизни? Наскрести денег на еду, чтобы было сил добраться до работы. Вот и всё.
– Скоро будет война, – произнёс я. – Скоро будет война. Вот что буду бормотать.
– Что вы сказали? – спросил мой сосед по эскалатору, интеллигентного вида старичок с палкой.
– Не ваше собачье дело, – прошипел я.
Тот поджал губы и промолчал.
Да, «скоро будет война» подходит. Это я точно замечу. Не пропущу. Пусть здесь будет кровь, огонь, взрывы. Всех ненавижу. Скорее бы вырваться из метро и добраться до дома. И уснуть. Хотя… Ещё бы неплохо продолжить историю про Зена… Он ждёт меня. Я нужен ему, чтобы существовать… Но и уснуть тоже хочется. Устал я. Устал. В кровать, в кровать…
Кровать неудобная, скрипит. Где я? Проволока словно впивается в спину. Приоткрываю глаза. Синева заполняет собой поле зрения. Пытаюсь встать. С табуретки возле койки на пол падает шприц. У меня возникает ощущение, что я здесь уже был. Голова тяжёлая. Я чихаю, и из носа, из самой глубины, граничащей с мозгом, вылетает огромный тёмно-зелёный сгусток. Мне холодно.
Я сажусь на койке и ёжусь. Я в какой-то ночлежке? Не похоже. Напротив меня – длинный стеллаж, заваленный мусором. Гараж или подвал… У меня возникает смутное чувство, перерастающее в уверенность. Я в подвале Иванова. Снова. Как я сюда попал?
Голова работает плохо. Хочется снова лечь и не вставать. Я давно не лежал на кровати, пусть и неудобной. Давно не был в помещении, пусть и сыром и холодном. Но смутное чувство нависающей опасности заставляет меня встать и пойти к лестнице.
Меня шатает. Дверь. Крутая лестница вверх. Стены покачиваются то влево, то вправо. Они словно сделаны из густого синего тумана. Почему я босой? От каждого соприкосновения голой кожи с бетонными ступенями меня бросает в дрожь. Лестница кончилась. Зеркало. Я – уставший, лохматый и снова обросший неприятный субъект с безумными глазами и потрёпанным телом. Всё лицо и руки в порезах. Я отворачиваюсь от зеркала. Как я сюда попал? Неужто набрёл случайно и решил отдохнуть по старой памяти? И где мои ботинки?
Прохожу в кабинет. Иду к своему креслу. Боковым зрением замечаю что-то странное. Смотрю направо и чуть не падаю от неожиданности. Чёрт, что это? В своём кресле развалился оскалившийся труп Иванова. Похоже, свежий. Борода торчит, белки глаз блестят.
Боже мой, что со мной происходит? Всё то, что я видел раньше – это просто бред под влиянием дури, которую мне вколол Иванов? Опускаюсь в кресло. Замечаю справа от него рюкзак с прикрученным к ручкам пуховиком. Мой. Расстёгиваю молнию. Мои вещи. Сверху – свитер. Надеваю его снова, чтобы согреться. Возле кресла стоят ботинки. Две пары. В одной из пар лежат чёрные носки.
Я рассматриваю ботинки. Одни из них – те, которые я украл из мусорки короля бомжей. Другие, с носками – вроде бы мои. В каких из них я пришёл сюда?
Я надеваю носки, затем свои ботинки. Удобные. Не то, что эта помойная дрянь. Хотя те удобные тоже, но… Упихиваю вторую пару в рюкзак. Пригодятся.
Живот ноет справа, и боль утомляет. Надо бы поесть. А на столе – недоеденная шоколадка. От неё, похоже, Иванов отбросил свои коньки. Жадно ломаю, кладу её в рот по частям, жую. Вкус чувствую где-то далеко, он не реален. Но отстранённо понимаю, что это вкусно. Должно быть вкусно.
Внезапно на меня снова накатывает страх. Как я могу сидеть здесь, возле трупа, так спокойно? Сейчас снова набегут полицейские, схватят меня, будут бить и в этот раз не отпустят. Они не поверят, что я два раза подряд убил Иванова и снова случайно здесь оказался.
Спешно собираю вещи и, дожёвывая шоколадку на бегу, покидаю кабинет. Сбегаю с крыльца в тёмную ночь. В голове моей всё путается. Я пытаюсь выстроить цепочку произошедших событий и не могу. Если я вернулся к Иванову сам, то откуда труп? Он давно уже в земле должен гнить. Если всё, что случилось, мне привиделось, то откуда рюкзак с вещами? Ну, положим, я мог с ним прийти к Иванову на сеанс. Но вторые ботинки…
Я устал от мельтешения картинок. Мне холодно. Шоколад, похоже, достиг моего желудка, и начал колоть его изнутри. Боль усиливается. Я бреду по узкой тропинке, окружённой фонарями, деревьями и скамейками. Почему бы не присесть?
Я опускаюсь на скамейку, чувствуя, как кружится голова. Надо взять себя в руки. Надо, наконец, собраться и как следует подумать, что делать дальше. Да, я сильно болен. Да, я мало что помню. Да, у меня нет ни денег, ни друзей. Но я же не пустое место, в конце концов! Я не дурак, не инвалид, я ещё молод, и у меня ещё довольно сил, чтобы решить свои проблемы.
Уняв дрожь, я пытаюсь думать. Надо найти место, где я могу пожить некоторое время. Прийти в себя, найти работу, если это возможно. Снять комнату? Так ведь денег нет. Можно попробовать где-нибудь их достать. Украсть? Да какой из меня вор, особенно в теперешнем состоянии? И не смогу я. Слишком хорошо воспитан. Может быть, попросить у прохожих? Написать табличку кривыми буквами «Ничего не помню. Негде жить». И встать у метро. Ага. Местные попрошайки сразу же вытолкают взашей. Или купленная ими полиция арестует. Можно, конечно, встать в таком месте, где конкурентов нет. Но там и соберёшь мало. Кто нынче подаёт деньги? Тем более что я здоровый мужик. Может, я могу куда-то на работу наняться? Ну да, с температурой в сто градусов и царапинами по всему лицу. Ещё и живот… Пересяду-ка я поудобнее, чтобы не так болело.
Итак, снять комнату или номер в гостинице я не могу. Но, может быть, меня кто-то пустит на ночлег? Я усмехаюсь. Пойти по квартирам, стучаться в двери и проситься переночевать? О нет, я слишком хорошо знаю людей. В лучшем случае вызовут милицию или побьют. Может быть, кто-то меня помнит? Но где искать этого кого-то?
Я вспоминаю о телефоне. Достаю из кармана. Вот если бы его зарядить… Может быть, не такая дурацкая идея сунуться в какой-нибудь магазин и попросить воткнуть его в розетку на пару минут? Или пойти на вокзал. Вроде бы там бывают розетки. Или в нём и так есть немного заряда и я смогу его включить?
Шмыгаю накопившимися в носу соплями, пробую нажать и подержать трясущимся пальцем кнопку включения. Нет, бесполезно. Телефон остаётся безжизненным куском материи, покрытым сеткой трещин.
– Эй, братан, – раздаётся над моим ухом. – Телефончик не одолжишь?
Я поднимаю глаза. Сквозь синеву проступают несколько фигур, окруживших скамейку. Их контуры нечётки, но я могу понять, что выглядят они странно. Ближайший ко мне – небритый, сигарета во рту, на голове две кепки… Нет, не так… У него на каждой голове по кепке. И в каждом рту по сигарете.
Двуглавый присел, отчего болтающаяся мотня его штанов коснулась земли. Торчащие из кроссовок когти нетерпеливо засуетились, зацарапали песок. Морда скривилась, рот раскрылся и обвис, обнажая угловатую костяную челюсть.
– Эй! Аллё! – произносит он. – Я с тобой разговариваю.
Я встаю, собираюсь убрать телефон, повесить на плечо рюкзак и уйти. Но он махает левой головой:
– А ну-ка.