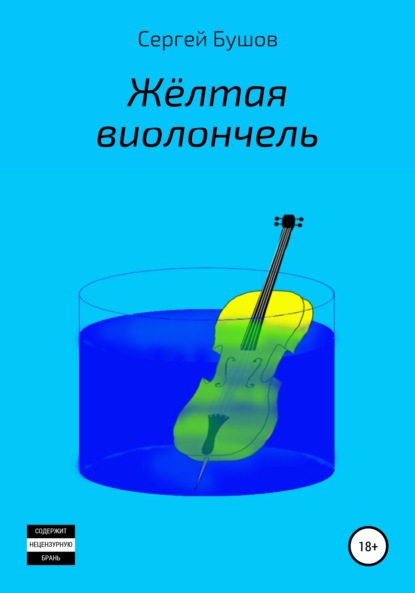По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жёлтая виолончель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он перетянул мне предплечье ремешком.
– Поработайте кулачком.
Я начал сгибать и разгибать пальцы. Иванов тем временем наполнил шприц прозрачной жидкостью.
– Хватит, – сказал он. – Сожмите кулак.
Ремешок свалился. Игла вонзилась в вену. В меня втекала субстанция с неизвестным мне составом, не вполне понятным лечебным действием и, скорее всего, массой никем не изученных побочных эффектов.
– Профессор… – пробормотал я. Чёрт, почему я всё время называл его профессором? – А я точно не умру?
– Ну, что вы! – усмехнулся Иванов. – Вы совершенно точно умрёте. Только не думаю, что сейчас, и уж точно не от моего эликсира. Но я надеюсь на несколько ошеломительный эффект, это да. Я думаю, что сейчас вы уснёте, а когда проснётесь, абсолютно ничего не будете помнить.
Я вспомнил. Я вспомнил, что значит по-латински tabula rasa. И мне стало страшно.
– Профессор, – сказал я, пытаясь приподняться. – А это точно необходимо? И сколько это будет действовать?
– Совершенно необходимо, на мой взгляд, – отрезал Иванов. – Вы лежите, лежите. Я надеюсь, что действовать это будет всю вашу жизнь. Я планирую, что в вашем сознании произойдут необратимые изменения.
– Но вы только что сказали, что я всё забуду. Я вас правильно понял?
– Да, – ответил Иванов. – И все ваши подсознательные установки очистятся. Вы сможете начать абсолютно новую жизнь. А прошлое, как мне кажется, постепенно вы придумаете себе другое. То, которое вам более подходит.
Я не очень понимал его, но был уверен, что не хочу ничего забывать. Не хочу становиться чистой доской, на которой он будет писать то, что ему нравится.
– Это нечестно, – сказал я. – Вы должны были предупредить меня.
– Ну вот, я же и предупреждаю, – невинно улыбнулся Иванов. – А для того, чтобы вам было легче, я советую сейчас расслабиться и думать о чём-нибудь приятном. О любимом человеке, например… А, у вас же такого нет. Ну, думайте о том, что вам нравится. И не беспокойтесь. Когда вы проснётесь, я буду рядом. Вот только сейчас отойду и немного, так сказать, отпраздную мой успех.
– Успех? – я чувствовал, как на меня наваливается тяжесть. Мне уже очень хотелось спать. – Почему вы считаете, что это успех?
Иванов поправил свои очки.
– А вы не поняли, нет? Ну, учитывая, что вы всё забудете, я могу вам сказать. Сегодня я убедился, что вы можете совершенно превосходно видеть без очков. Это значит, что на вас мои методы работают.
– Без очков? – промямлил я. Да, похоже, это было так. Я отчётливо видел стеллаж за спиной Иванова и железный хлам на нём, каждую гаечку, каждую проволочку. Но они стали расплываться.
Я откинулся на жёсткую подушку. Помещение вокруг меня размывалось. Лицо Иванова помутнело. Надо думать о хорошем. О хорошем. О чём хорошем? Что у меня есть хорошего? Ну, я жив. Я не такой уж плохой. Не безнадёжный. Я пишу книгу. Зен. Он где-то там, в моей книге. Я нужен ему. Он хороший. Он хочет к морю. Я – Зен. Нет. Это я путаюсь. Я засыпаю.
Вокруг меня – тьма. Полная, беспросветная. Но вдруг справа разгорается огонёк. Ярко-оранжевый, тёплый. Словно кто-то подкинул пару поленьев в печь, и пламя разгорелось. Оно высвечивает из темноты костлявую фигуру. На её плечи наброшен лохматый платок. Жидкие седые волосы растрёпаны, лицо покрыто морщинами. Оранжевый свет, падающий сбоку, делает лицо ещё более рельефным и немного зловещим. Глаза старухи – безумные, блестящие, раскрыты широко.
– Ты не спишь? – спрашивает она.
– Нет, – отвечаю я. – А ты кто?
Старуха хмурится:
– Ты что это? Меня не узнаёшь? В твои-то §оды склероз? А§атомея я, ты ко мне всё сказки приходишь слушать.
– Прости, – отвечаю я. – Это я спросонья. Или я во сне вообще?
– Ну да, во сне, – отвечает она. – Теперь я к тебе решила прийти.
– Сказку рассказать?
Старуха поджимает подбородок.
– Нет. Я слышала, ты про отца своего узнал и про деда. Правда это?
– Да, – отвечаю я.
– Ну, так вот, – Агатомея наклоняется ко мне ближе. – Забудь ты о них.
– Почему?
– Потому что они свою жизнь жили, а ты живёшь свою. То, что ты их не помнишь, ещё не значит, что они в тебе не живут. Память – она накапливается. Не теряется никуда даже через мно§о поколений.
– А ты точно Агатомея? – спрашиваю я. – Больно мудро говоришь. Раньше ты проще говорила.
– А какая тебе разница? – Агатомея поджимает губы. – Какая приснилась, такая и есть. Ты послушай меня. Выбрось из головы своё море и походы за тридевять земель. Живи, как живётся. §ены – они коварные. Все люди совершают одни и те же ошибки. Дед твой совершал, и отец, и ты будешь. Разорви этот кру§. Будь собой.
– Но я же сам хочу к морю! – возражаю я.
– Да ты и не знаешь, что такое море, – качает головой старуха. – Это §ены в тебе говорят. Ну, и тя§а к новому, конечно, тоже. Ты меня всё равно не послушаешь. Но хотя бы подумай.
– Ты не Агатомея, – говорю я. – Это я сам себе придумал такой сон, потому что боюсь отправиться в путешествие.
– Пусть так, – кивает старуха. – Да ведь и ты не совсем Зен. Все твои предки сейчас спят вместе с тобой и видят этот сон. Ты – одно целое с ними. Ты поступаешь так, как они вынудили тебя поступить. И я говорю всем им – оставьте ребёнка в покое!
Лицо Агатомеи стало грозным, морщины вздыбились сильнее, и мне стало неуютно. Но свет вдруг потускнел, и сон охватил меня, и я хотел погрузиться в блаженство, но вдруг почувствовал, как кто-то укусил меня за палец.
Я отпрыгнул и свалился с груды грязных тряпок в углу. Хибарка, переделанная из огромного обрезка бывшей газопроводной трубы, тускло освещалась щепочкой, горящей на стене в железной миске.
Рядом со мной скалил зубы маленький голый уродец с четырьмя руками и раздвоенным хвостом, как у ящерицы. Я оттолкнул его, но услышал грозный голос мамаши Лямуш с высоты её кресла:
– Эй, приёмыш! Ты пошто малыша забижаешь?
– Так он кусается! – обиженно воскликнул я. – Вон у него какие зубищи.
– Ты как со мной разговариваешь?! – заорала Лямуш. – Он только-только из меня вылез, а ты его уже лупцуешь почём зря. Я тебе сказала тряпки выкинуть да сжечь. Это ж подгузники, они все в §овне!
– А спать на чём? – возмутился я.
– По§овори мне! Быстро взял и сжё§!
Я послушно стал собирать тряпки в драный мешок.
– Ты не понимаешь, урод двурукий, – сказала Лямуш, – какое счастье это – что кров есть над головой и тебя кормят. Всё мало тебе.